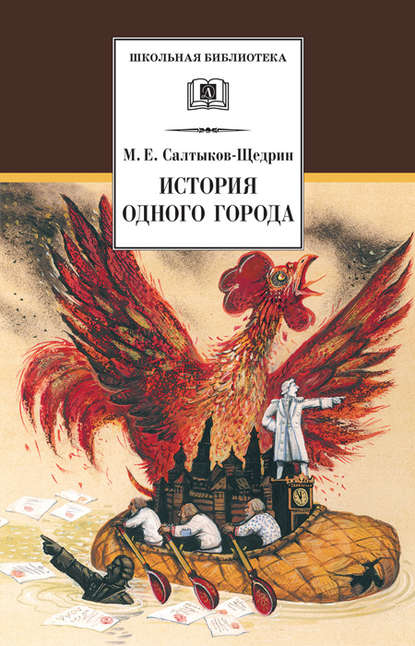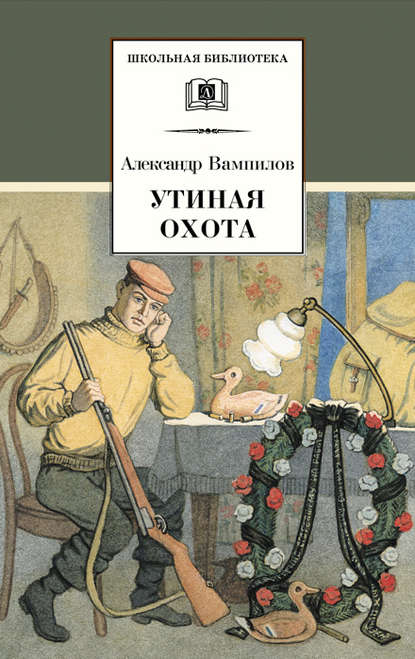Полная версия
Поэмы

Александр Александрович Блок
Поэмы

«Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!..»
Имя Александра Блока, пожалуй, прежде всего связано у большинства читателей с множеством замечательных лирических стихотворений, подчас – подлинных шедевров, будь то стихи о любви во всей ее великой силе и во всем драматизме (вспомним хотя бы знаменитое «О доблестях, о подвигах, о славе…» или «Приближается звук…») или о родине («Россия», «На поле Куликовом»).
Поэмы Блока, за исключением «Двенадцати», вызвавших бурю разноречивых оценок, даже до сих пор не утихшую, менее известны, хотя едва ли не каждая из них была важной вехой на творческом пути поэта.
Проба себя в этом жанре совпала у Блока с завершением и выходом в свет в конце 1904 года его первой книги «Стихи о Прекрасной Даме». В ней роман с будущей женой Л. Д. Менделеевой осмыслен в духе не только романтически-рыцарского преклонения перед возлюбленной, но и увлекшей молодого поэта мистической философией Владимира Соловьева, пророчившего преображение мира Красотой, Вечной Женственностью.
«Туго, гладкими стихами старательно пишу поэму», – сообщал Блок 13 декабря 1904 года другому соловьевцу – Андрею Белому. В рукописи она носила название «Прибытие Прекрасной Дамы». Как и в сборнике стихов, туманно-мистические образы сочетались в ней с чутким ощущением назревающих в реальной действительности перемен.
Занятые «тяжелым», «медленным» трудом люди в «душном порту» неясно мечтают о каком-то чуде. Наконец гроза поет им «веселую песню», предвещая скорое прибытие «больших кораблей» из далекой страны.
А уж там – за той косою —Неожиданно светла,С затуманенной красоюИх красавица ждала…То – земля…Тут, пожалуй, впервые появляется в поэзии Блока образ родины (сходный образ впоследствии возникнет в знаменитом стихотворении «Россия»: «И лишь забота затуманит твои прекрасные черты»).
В упомянутом письме Белому говорится, что автор «дошел наконец до части, где должна появиться Она». Однако остановился и затем, публикуя эти семь глав незавершенной поэмы, озаглавил ее просто «Ее прибытие», уклонившись от прямого отождествления «Ее» с Прекрасной Дамой. А один из ближайших друзей Блока, Евгений Иванов, обычно посвящаемый им в самые сокровенные переживания, писал в черновых набросках своих воспоминаний, что таинственная Она – это революция.
В то время революция рисовалась Блоку в самых светлых тонах, почти как Тузенбаху в чеховской пьесе «Три сестры», который, говоря о «здоровой сильной буре», радуется тому, что она «сдует (странный глагол применительно к буре! – А. Т.) с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Вот и у Блока «буйные толпы» ведут себя самым мирным образом:
…в предчувствии счастьяВышли на берег встречать корабли.Кто-то гирлянду цветочную бросил,Лодки помчались от пестрой земли.Сильные юноши сели у весел,Скромные девушки взяли рули.Плыли и пели, и море пьянело…И если в одном из вариантов этой, последней из написанных глав упоминается «гребень кровавый» морской волны, то это всего лишь зрительное впечатление – отблеск солнечных «пурпуровых стрел».
Далекий путь лежит отсюда до «Двенадцати»! И первым шагом на этом пути стало решение автора не продолжать свою первую поэму как продиктованную «разными несбывшимися надеждами», как пояснит он позже, помещая ее главы в собрание сочинений. О желании «бросить поэму» сказано уже в том же письме Андрею Белому, а наступившее вскоре, 9 января 1905 года, Кровавое воскресенье могло только окончательно похоронить мечты о скором и триумфальном пришествии «кораблей свободы».
В трагическом стихотворении «Девушка пела в церковном хоре…» (1905) очарованным ее «сладким» голосом людям «казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли», -
И только высоко, у Царских Врат,Причастный Тайнам, – плакал ребенокО том, что никто не придет назад.Здесь вероятны как скорбный отголосок гибели русского флота в недавнем Цусимском бою, так и символический мотив несбывшихся надежд. В пору поражения первой русской революции он вновь и вновь возникал в более поздней книге Блока «Снежная маска» (1907), в тех же, знакомых нам, образах: «Там, где… В дали невозвратные Повернули корабли. Не видать ни мачт, ни паруса…», «И за тучей снеговой Задремали корабли…», «На вьюжном море тонут Корабли…» и т. п.
Впрочем, новый и совсем особый драматический поворот приобретает эта тема уже в поэме «Ночная Фиалка» (1906). В отличие от пьесы «Балаганчик» (1906), где Блок весьма саркастически высмеял мистические «предчувствия» и «ожидания» своих недавних единомышленников (да и свои собственные!), поэма выдержана в иной тональности.
Говоря об одном персонаже «Балаганчика» – рыцаре, автор в письме к постановщику пьесы В. Э. Мейерхольду высказал примечательное пожелание, выраженное в метафорической форме: пусть меч его будет «матово-серым, как будто сталь его покрылась инеем скорби, влюбленности, сказки – вуалью безвозвратно прошедшего, невоплотимого, но и навеки несказанного» (то есть невыразимо дорогого).
Эти слова – как будто музыкальный ключ, в котором выдержано все повествование в «Ночной Фиалке». Герой во сне попадает в странный сказочный мир, где уже бывал раньше, когда вместе с «товарищами прежними» поклонялся «королевне забытой страны, что зовется Ночною Фиалкой». Теперь же он видит, как собравшиеся всё глубже погружаются в сонное оцепенение, «и проходят, быть может, мгновенья, А быть может, – столетья». Подурнела королевна, потускнели королевские венцы, рассыпаются в прах мечи, сквозь истлевший пол пробивается травка. Все овеяно «стариной бездыханной», а настоящая жизнь – где-то далеко отсюда:
Слышу, слышу сквозь сонЗа стенами раскаты,Отдаленные всплески,Будто дальний прибой,Будто голос из родины новой…Или гонит играющий ветерКорабли из веселой страны.На сей раз символический образ кораблей – жизненных перемен – возникает как решительный, динамический контраст блекнущему сказочному королевству. И сам герой, похоже, испытывает мучительное раздвоение между верностью когда-то дорогому прошедшему и тягой на простор. Мы еще припомним эту драматическую коллизию, когда будем читать более поздние поэмы Блока, в особенности – «Соловьиный сад».
Если в своей лирике Блок вскоре декларировал: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!», то в цикле небольших поэм «Вольные мысли» (1907) возникает реальная панорама окружающего мира. Чрезвычайная конкретность, зримость рисуемых здесь картин повседневности даже побуждала некоторых критиков видеть в «Вольных мыслях» стихотворные очерки. Но конечно же это прежде всего «спокойные, строгие, простые и величавые стихи», как восторженно охарактеризовал их один современник, почувствовавший их явственное родство со знаменитыми пушкинскими белыми стихами.
Скитания лирического героя очерчены со всей бытовой достоверностью («Я проходил вдоль скачек по шоссе…», «Однажды брел по набережной я…»), но за ними проступают и его духовные метания и томления, острое неприятие «сытого» существования (описание «гуляющих модниц и франтов» живо перекликается со строками знаменитого стихотворения «Незнакомка»: «Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки»), тоска по «соленому воздуху» морских просторов и естественной народной жизни (у блоковских тружеников почти иконные лики: «…Светлые глаза привольной Руси Блестели строго с почерневших лиц»).
Пройдет несколько лет, и поэт сделает следующий шаг на пути приятия жизни не только во всей ее живой конкретности, но и во всей драматической масштабности ее исторического течения, становления, смены и в то же время преемственности, связи поколений, когда «в каждом дышит дух народа, сыны отражены в отцах».
«Современная поэзия чужда крупных замыслов», – сетовал один из ее ярких представителей – Иннокентий Анненский в предсмертной статье 1909 года. Сходного мнения придерживался и Блок. Как «недостаток… современной талантливости» отмечает он в записной книжке «короткость, отсутствие longue haleine[1]».
Перечитывание пушкинской и толстовской прозы не только утверждает его в этих мыслях, в мечтах о «большом стиле», но и как бы исподволь создает атмосферу некоей духовной «предрасположенности» к возникновению «крупных замыслов». «Волнение идет от „Войны и мира“ (сейчас кончил II том), – записывает он однажды ночью, – потом распространяется вширь и захватывает всю мою жизнь и жизнь близких и близкого мне».
Смерть отца в конце 1909 года, незаурядного ученого со сложной, несложившейся судьбой, способствует окончательной «кристаллизации» дотоле еще смутных мыслей.
Первоначально этому событию была посвящена преимущественно лирическая «Варшавская поэма». Впоследствии блоковский замысел расширяется и предполагает создание большого эпического полотна, запечатлевающего уже не только «жизнь близких», но и панораму русской и даже мировой истории конца XIX – начала XX века. «Варшавская поэма» становится лишь отдельной главой в этом новом произведении, где и отцовская биография, и эпизоды семейной хроники Бекетовых, родни поэта с материнской стороны, проецируются на широчайший исторический фон. Поэт стремится отыскать и выявить скрытые связи между личными драмами персонажей и нараставшим в мире предгрозовым напряжением.
Поэма «Возмездие» начинается триумфальной картиной возвращения русской армии в Петербург с русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Ликование, «толпа глазеющих зевак», все еще вроде бы благополучно… И, лишь как внезапно взметнувшийся язык подземного вулканического огня, возникает сцена тайного сборища революционеров, будущих участников цареубийства.
Столь же обманчивой оказывается и идиллическая жизнь изображенной далее петербургской дворянской семьи. Объективность, с которой описывает и оценивает поэт породившую его самого среду, – одно из его замечательных достижений. О конце русского дворянства говорит, как охарактеризовал себя однажды сам Блок, «тот, кто любил его нежно, чья благодарная память сохранила все чудесные дары его русскому искусству и русской общественности в прошлом столетии», но «кто ясно понял, что уже пора перестать плакать о том, что его благодатные соки ушли в родную землю безвозвратно…». (Не напоминает ли это отчасти грустную интонацию «Ночной Фиалки», где о персонажах говорилось, что «над старыми их головами Больше нет королевских венцов»?)
Одно только появление «незнакомца странного» (во многом похожего на отца поэта), нарушившего семейный покой, подобно грозовой зарнице на дотоле мирном небе. Впереди же «сию старинную ладью» ждут новые небывалые бури, зарождающиеся в русской жизни, поистине пророчески охарактеризованной Блоком:
Так неожиданно суроваИ вечных перемен полна,Как вешняя река, онаВнезапно тронуться готова,На льдины льдины громоздитьИ на пути своем крушитьВиновных, как и невиновных,И нечиновных, как чиновных.К сожалению, автору не суждено было довести поэму до конца. Завершена лишь «отцовская» линия сюжета. Судьба сына (фигуры во многом автобиографической) остается неясной, но, несомненно, трагической. Возникающие в последней из завершенных, «варшавской», главе образы вьюги, ветра, который «ломится в окно, взывая к совести и к жизни», «Пана-Мороза», который «во все концы Свирепо рыщет на раздольи», в чем-то близки атмосфере будущей «октябрьской» поэмы Блока с ее сквозным мотивом метельной бури, сотрясающей мир.
Рядом с грандиозным по замыслу «Возмездием» «Соловьиный сад» выглядит очень скромно, и сам автор улыбчиво называл его «поэмкой». Однако, читая «поэмку» и рассматривая ее в перспективе всего творчества Блока, вспоминаешь давние строки Фета:
Но муза, правду соблюдая,Глядит – а на весах у нейВот эта книжка небольшаяТомов премногих тяжелей.В предельно сжатом и четко организованном сюжете «Соловьиного сада» воплощены издавна волновавшие Блока мысли и чувства. Уже в «Ночной Фиалке» герой тяготился пребыванием в сказочном королевстве, прислушиваясь к зову жизни за стенами. С годами этот мотив становится все отчетливее. Близкий будущей поэме сюжет возникает в стихотворении «В сыром ночном тумане…», где перед усталым путником возникает манящий огонек:
И показалось мне:Изба, окно, гераниАлеют на окне…И сладко в очи глянулНеведомый огонь,И над бурьяном прянулИспуганный мой конь…«О, друг, здесь цел не будешь,Скорей отсюда прочь!Доедешь – всё забудешь,Забудешь – канешь в ночь!В тумане да в бурьяне,Гляди, – продашь ХристаЗа жадные герани,За алые уста!»Волнующая автора тема развита с поразительной смелостью и искренностью в сюжете «Соловьиного сада», где сказочность сочетается с величайшей простотой. Сердце героя разрывается между окружившей его в волшебном саду красотой и суровым долгом, связанным с «низким», прозаическим образом осла, спутника самого будничного труда.
В литературе о Блоке существует версия, согласно которой соловьиный сад – нечто дьявольское, соблазн, созданный на погибель человеку. Однако думается, что это скорее образ счастья, еще недостижимого для людей и поэтому морально невозможного даже для того, который, казалось бы, мог им спокойно наслаждаться. Эта же мысль постоянно возникает и в лирике поэта:
Пускай зовут: Забудь, поэт,Вернись в красивые уюты!Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!Уюта – нет. Покоя – нет.Случилось так, что отдельным изданием «Соловьиный сад» был выпущен уже после революции, почти одновременно с «Двенадцатью», и демонстративно противопоставлялся некоторыми критиками этой новой поэме. Однако при всех внешне разительных отличиях оба произведения роднит самоотверженное приятие реальной жизни – в облике ли тяжелого будничного труда или грозно «двинувшейся» и крушащей на своем пути «виновных, как и невиновных» (вроде бедной «толстоморденькой Кати» в «Двенадцати») стихии народного мятежа.
Грозная, неостановимая поступь двенадцати героев явно ассоциировалась у поэта с его давним драматическим истолкованием знаменитого гоголевского образа-символа. «Что, если тройка, вокруг которой „гремит и становится ветром разорванный воздух“, – летит прямо на нас?» – писал он ранее, в статье «Народ и интеллигенция» (1908).
Блок чутко и верно понял, что «многопенный вал» (слова из его стихотворного послания «3. Гиппиус») революции возник из неисчислимого множества самых разных «капель» – от возвышенной мечты о справедливости до «черной злобы» и мстительных упований («Уж я ножичком полосну, полосну!..» – слышится в разноголосом «хоре» двенадцати красногвардейцев). По выражению чуткого современника, поэма осветила «и правду и неправду того, что совершалось». Ее герои нисколько не идеализированы, и тем не менее она, по словам поэта Максимилиана Волошина, «оказалась милосердной предстательницей (заступницей. – А. Т.) за темную и заблудшую душу русской разиновщины». С величайшим состраданием и сочувствием написан образ «бедного убийцы» Катьки – Петрухи. И появление в финале поэмы Христа как бы во главе красногвардейцев, пусть и невидимого им, говорило о надежде автора на то, что правда и справедливость все-таки живут в глубине этих яростных душ и в конце концов восторжествуют.
Подобным стремлением защитить, отстоять «правду того, что совершалось», продиктованы и написанные сразу после «Двенадцати» «Скифы». Непосредственные впечатления от происходящего (в первую очередь – от немецкого наступления на новорожденную и неокрепшую Советскую Республику) претворились в этой маленькой поэме в грандиозные трагические картины.
Еще в «Итальянских стихах» (1909) и других, более ранних произведениях Блок проводил резкую грань между ценностями великой европейской культуры и тем, что он называл «всеевропейской желтой пылью», цивилизацией, где «машина раздавила человека» (как это происходит в пьесе «Песня Судьбы»), гнетущей бездуховностью; между тем, что он впоследствии, в дни создания «Скифов», назовет «лицом» Европы и ее все явственней обозначающейся хищной «мордой».
Он и в «Скифах» по-прежнему признается в любви к европейской культуре:
Нам внятно все – и острый галльский смыслИ сумрачный германский гений.Однако все нараставшая в душе поэта с первых дней мировой войны боль за Россию, которой, по его убеждению, всех тяжелее (что и подтвердил происшедший в ней революционный взрыв), до крайности обострила его гневное неприятие «цивилизации дредноутов»:
Вы сотни лет глядели на Восток,Копя и плавя наши перлы,И вы, глумясь, считали только срок,Когда наставить пушек жерла!И пусть картины страшного возмездия, которое постигнет «пригожую» Европу, если она не «опомнится», крайне фантастичны, но поразительно и по-прежнему современно вещее предчувствие поэтом катастрофичности, заложенной в мировой жизни и ныне проявляющейся в опасном противостоянии разных цивилизаций: сытого Севера и бедствующего Юга, «золотого миллиарда» обитателей процветающих стран и остальных жителей Земли!
Трудно поверить, что в начале своего творческого пути Александр Блок, дебютировавший как «чистый» лирик, сомневался в возможности поэмы открыть «простор для творчества». Ведь именно в этом жанре были им впоследствии созданы такие выдающиеся произведения, без которых его творчество, его поэтический облик попросту непредставимы.
А. Турков
Поэмы
Ночная фиалка[2]
Сон



Миновали случайные дниИ равнодушные ночи,И, однако, памятно мнеТо, что хочу рассказать вам,То, что случилось во сне.Город вечерний остался за мною.Дождь начинал моросить.Далеко, у самого края,Там, где небо, устав прикрыватьПоступки и мысли сограждан моих,Упало в болото, —Там краснела полоска зари.Город покинув,Я медленно шел по уклонуМалозастроенной улицы,И, кажется, друг мой со мной.Но если и шел он,То молчал всю дорогу.Я ли просил помолчать,Или сам он был грустно настроен,Только, друг другу чужие,Разное видели мы:Он видел извощичьи дрожки,Где молодые и лысые франтыОбнимали раскрашенных женщин.Также не были чужды емуДевицы, смотревшие в окнаСквозь желтые бархатцы…Но все посерело, померкло,И зренье у спутника – также,И, верно, другие желаньяЕго одолели,Когда он исчез за углом,Нахлобучив картуз,И оставил меня одного.(Чем я был несказáнно доволен,Ибо что же приятней на свете,Чем утрата лучших друзей?)Прохожих стало все меньше.Только тощие псы попадались навстречу,Только пьяные бабы ругались вдали.Над равниною мокрой торчалиКочерыжки капусты, березки и вербы,И пахло болотом.И пока прояснялось сознанье,Умолкали шаги, голоса,Разговоры о тайнах различных религий,И заботы о плате за строчку, —Становилось ясней и ясней,Что когда-то я был здесь и виделВсе, что вижу во сне, – наяву.Опустилась дорога,И не стало видно строений.На болоте, от кочки до кочки,Над стоячей и ржавой водойПерекинуты мостики были,И тропинка виласьСквозь лилово-зеленые сумеркиВ сон, и в дрему, и в лень,Где внизу и вверху,И над кочкою чахлой,И под красной полоской зари, —Затаил ожидание воздухИ как будто на страже стоял,Ожидая расцветаНежной дочери струйВодяных и воздушных.И недаром все было спокойноИ торжественной встречей полнó:Ведь никто не слыхал никогдаОт родителей смертных,От наставников школьных,Да и в книгах никто не читал,Что вблизи от столицы,На болоте глухом и пустом,В час фабричных гудков и журфиксов,В час забвенья о зле и добре,В час разгула родственных чувствИ развратно длинных беседО дурном состояньи желудкаИ о новом совете министров,В час презренья к лучшим из нас,Кто, падений своих не скрывая,Без стыда продает свое телоИ на пыльно-трескучих троттуарахС наглой скромностью смотрит в глаза, —Что в такой оскорбительный часВсем доступны виденья.Что такой же бродяга, как я,Или, может быть, ты, кто читаешьЭти строки, с любовью иль злобой, —Может видеть лилово-зеленыйБезмятежный и чистый цветок,Что зовется Ночною Фиалкой.Так я знал про себя,Проходя по болоту,И увидел сквозь сетку дождяНебольшую избушку.Сам не зная, куда я забрел,Приоткрыл я тяжелую дверьИ смущенно встал на пороге.В длинной, низкой избе по стенамНеуклюжие лавки стояли.На одной – перед длинным столом —Молчаливо сидела за пряжей,Опустив над работой пробор,Некрасивая девушкаС неприметным лицом.Я не знаю, была ли онаМолода иль стара,И какого цвета волосы были,И какие черты и глаза.Знаю только, что тихую пряжу пряла,И потом, отрываясь от пряжи,Долго, долго сидела, не глядя,Без забот и без дум.И еще я, наверное, знаю,Что когда-то уж видел ее,И была она, может быть, крашеИ, пожалуй, стройней и моложе,И, быть может, грустили когда-то,Припадая к подножьям ее,Короли в сединáх голубых.

И запомнилось мне,Что в избе этой низкойВеял сладкий дурман,Оттого, что болотная дремаЗа плечами моими текла,Оттого, что пронизан был воздухЗацветаньем Фиалки Ночной,Оттого, что на праздник вечернийЯ не в брачной одежде пришел.Был я нищий бродяга,Посетитель ночных ресторанов,А в избе собрались короли;Но запомнилось ясно,Что когда-то я был в их кругуИ устами касался их чашиГде-то в скалах, на фьордах,Где уж нет ни морей, ни земли,Только в сумерках снежныхЧуть блестят золотые венцыСкандинавских владык.Было тяжко опять приступитьК исполненью сурового долга,К поклоненью забытым венцам,Но они дожидались,И, грустя, засмеялась душаЗапоздалому их ожиданью.Обходил я избу,Руки жал я товарищам прежним,Но они не узнали меня.Наконец, за огромною бочкой(Верно, с пивом), на узкой скамьеЯ заметил сидящихСтарика и старуху.И глаза различили венцы,Потускневшие в воздухе ржавом,На зеленых и древних кудрях.Здесь сидели веками они,Дожидаясь привычных поклонов,Чуть кивая пришельцам в ответ.Обойдя всех сидевших на лавках,Я отвесил поклон королям;И по старым, глубоким морщинамПробежала усталая тень;И привычно торжественным жестомКороли мне велели остаться.И тогда, обернувшись,Я увидел последнюю лавкуВ самом темном углу.Там, на лавке неровной и шаткой,Неподвижно сидел человек,Опершись на колени локтями,Подпирая руками лицо.Было видно, что он, не старея,Не меняясь, и думая думу одну,Прогрустил здесь века,Так что члены одеревенели,И теперь, обреченный, сидитЗа одною и тою же думойИ за тою же кружкой пивной,Что стоит рядом с ним на скамейке.И когда я к нему подошел,Он не поднял лица, не ответилНа поклон и не двинул рукой.Только понял я, тихо вглядевшисьВ глубину его тусклых очей,Что и мне, как ему, сужденоЗдесь сидеть – у недопитой кружки,В самом темном углу.Суждена мне такая же дума,Так же руки мне надо сложить,Так же тусклые очи направитьВ дальний угол избы,Где сидит под мерцающим светом,За дремотой четы королевской,За уснувшей дружиной,За бесцельною пряжей —Королевна забытой страны,Что зовется Ночною Фиалкой.Так сижу я в избе.Рядом – кружка пивнаяИ печальный владелец ее.Понемногу лицо его никнет,Скоро тихо коснется колен,Да и руки, не в силах согнуться,Только брякнут костями,Упадут и повиснут.Этот нищий, как я, – в старинуБыл, как я, благородного рода,Стройным юношей, храбрым героем,Обольстителем северных девИ певцом скандинавских сказаний.Вот обрывки одежды его:Разноцветные полосы тканей,Шитых золотом краснымИ поблекших.Дальше вижу дружинуНа огромных скамьях:Кто владеет в забвеньиРукоятью меча;Кто, к щиту прислонясь,Увязил долговязую шпоруПод скамьей;Кто свой шлем уронил, – и у шлема,На истлевшем полу,Пробивается бледная травка,Обреченная жить без весныИ дышать стариной бездыханной.Дальше – чинно, у бочки пивной,Восседают старик и старуха,И на них догорают венцы,Озаренные узкой полоскойОтдаленной зари.И струятся зеленые кудри,Обрамляя морщин глубину,И глаза под навесом бровейОгоньками болотными дремлют.Дальше, дальше – беззвучно прядет,И прядет, и прядет королевна,Опустив над работой пробор.Сладким сном одурманила нас,Опоила нас зельем болотным,Окружила нас сказкой ночной,А сама все цветет и цветет,И болотами дышит Фиалка,И беззвучная кружится прялка,И прядет, и прядет, и прядет.Цепенею, и сплю, и грущу,И таю мою долгую думу,И смотрю на полоску зари.И проходят, быть может, мгновенья,А быть может, – столетья.Слышу, слышу сквозь сонЗа стенами раскаты,Отдаленные всплески,Будто дальний прибой,Будто голос из родины новой,Будто чайки кричат,Или стонут глухие сирены,Или гонит играющий ветерКорабли из веселой страны.И нечаянно Радость приходит,И далекая пена бушует,Зацветают далёко огни.Вот сосед мой склонился на кружку,Тихо брякнули руки,И приникла к скамье голова.Вот рассыпался меч, дребезжа.Щит упал. Из-под шлемаПобежала веселая мышка.А старик и старуха на лавкеПрислонились тихонько друг к другу,И над старыми их головамиБольше нет королевских венцов.И сижу на болоте.Над болотом цветет,Не старея, не зная измены,Мой лиловый цветок,Что зову я – Ночною Фиалкой.За болотом остался мой город,Тот же вечер и та же заря.И, наверное, друг мой, шатаясь,Не однажды домой приходилИ ругался, меня проклиная,И мертвецким сном засыпал.Но столетья прошли,И продумал я думу столетий.Я у самого края земли,Одинокий и мудрый, как дети.Так же тих догорающий свод,Тот же мир меня тягостный встретил.Но Ночная Фиалка цветет,И лиловый цветок ее светел.И в зеленой ласкающей мглеСлышу волн круговое движенье,И больших кораблей приближенье,Будто вести о новой земле.Так заветная прялка прядетСон живой и мгновенный,Что нечаянно Радость придетИ пребудет она совершенной.И Ночная Фиалка цветет.
18 ноября 1905 – 6 мая 1906