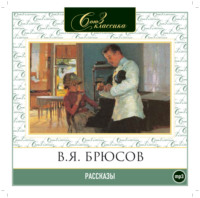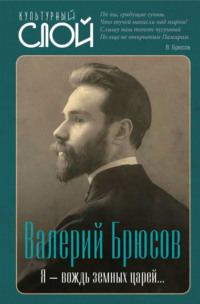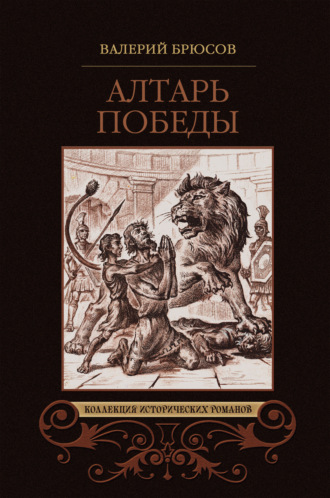 полная версия
полная версияАлтарь победы
Слушая длинную болтовню старика, Гесперия, как это она делала и при чтении писем, что-то записывала в свои маленькие пугиллары, с которыми не расставалась во все время пути. Потом она начала подробно и настойчиво расспрашивать Рустика о всех других событиях и происшествиях в Медиолане и вела допрос, как самый хитрый судья. Рассказав множество незначащих пустяков, пересыпанных клеветами и злыми отзывами решительно обо всех поминаемых лицах, старик неожиданно заговорил о деле, которое касалось меня близко, так что, слушая его, я весь похолодел. Именно, он стал рассказывать о том мятеже христиан, который подняла Pea со своими сторонниками.
По его словам, мятежники, которым удалось бежать из Медиолана, были сначала малочисленны. Но скоро к ним стали примыкать жители селений, недовольные поборами и притеснениями. Тогда против мятежников, отказывающих в повиновении императору, была отправлена когорта с приказанием переловить всех и доставить в город. Произошло, однако, неожиданное: колоны, вооруженные вилами и старыми мечами, разбили в правильном бою римскую когорту и обратили ее в постыдное бегство. Понимая все же, что против значительных сил им не удержаться, они после того удалились в горы к Ларию и там возмутили еще пять или шесть селений. Император перед самым своим отъездом отдал распоряжение послать против них префекта с полным легионом и в корне уничтожить восстание. В настоящее время с этой толпой всякого сброда идет настоящая война. Римские воины загородили все дороги, держат мятежников в осаде и ждут только подходящего времени, чтобы идти приступом на их горное гнездо.
Трудно описать, в какое смятение привел меня этот рассказ старика. Мне ясно вспомнился образ странной девушки, которая влекла меня в области, мне чуждые, но с которой провел я столько сладких минут. Мне представилась Pea, окруженная своими новыми приверженцами, людьми, ей чужими и грубыми, без поддержки и дружественного совета, – и мне стало бесконечно жаль ее. Еще я подумал о том, что кому-то она, может быть, говорит те же нежные слова, как когда-то мне, и – странное дело – я почувствовал, что гарпийные когти ревности вонзаются мне в сердце. Наконец, я сказал себе, что, окруженная врагами, запертая целым легионом в горах, она со своими друзьями обречена на неизбежную гибель, и мне захотелось Рею предупредить, спасти, отговорить от ее безумного предприятия. Воображая перед своими глазами ее тело, насилуемое дикими скифами грациановского войска, пробитое стрелами или копьем, ее голову, с безумными глазами, отсеченную от плеч мечом, я сознавал, что долг мой – идти к ней и увести ее из той середины Тартара, в которую она бросилась сама в своем безудержном ослеплении.
Когда Рустик, рассказывавший еще немало другого, наконец ушел, я тотчас обратился к Гесперии с просьбой отпустить меня на несколько дней, чтобы попытаться проникнуть к Рее, тем более что все равно мы намеревались пробыть в Медиолане не меньше недели.
– Быть может, – говорил я, – мне удастся там сделать что-нибудь полезное для наших замыслов. Быть может, этих христиан мне удастся привлечь на нашу сторону, так как у нас общий враг – Грациан. Наконец, быть может, я сумею помочь им в их борьбе с императорскими войсками, и это тоже будет для нас не лишнее.
– Не лицемерь! – возразила мне Гесперия. – Ты просто хочешь вновь увидеть ту девушку, о которой ты мне говорил. Несмотря на все твои клятвы в любви ко мне, ты горишь от желания опять ее обнимать. Ты недостаточно насытился ее ласками, а мужчины любят каждую женщину исчерпать до дна.
Невольно покраснев, я стал клясться Гесперии, что она не права, что нет никого в мире, кого я любил бы, кроме нее, что никакая другая женщина не может быть мне желанна, что руководит мною только ревность к нашему общему делу, которому я могу быть полезен по своей прежней близости к Рее.
– Все равно я тебе не верю, Юний, – сказала Гесперия, – я вижу, что эта Герса очаровала моего Меркурия (так иногда меня называла Гесперия), но все равно я не могу тебя отпустить ни на час. Ты мне нужен всегда, и я не знаю, когда именно. Затем подумай, что приют мятежников оцеплен войском, проникнуть туда можно, но выйти оттуда будет нелегко. Тебя убьют или захватят, а все мои расчеты построены на том, что со мною должен быть человек, совершенно мне верный. Нет, тебе идти нельзя.
Когда я попытался настаивать еще, Гесперия нахмурила брови и произнесла уже строго:
– Ты поклялся повиноваться каждому моему слову. Что же, при первом же испытании ты хочешь нарушить свою клятву? Если так, ступай, но тогда ко мне ты не вернешься никогда. Я так сказала.
Конечно, после этого я стал просить прощения в своей дерзости, отрекался от своего желания и умолял вернуть мне прежнюю благосклонность. Однако весь тот день Гесперия, как бы наказывая меня, больше со мною не говорила. За обедом она беседовала исключительно с Фальтонией и рано удалилась в отведенную ей комнату, сославшись на усталость после дороги.
Я, очутившись вновь в той же комнате, где когда-то обдумывал способы убить императора, испытал непобедимую дрожь. Мне то казалось, что в углу еще стоит мой ларь с роковым колобием, то, что сейчас отворится дверь, войдет с коварной улыбкой сириец и меня опять потащат в смрад подземной тюрьмы. Ощущение всего недавно пережитого мною было так сильно, что нечто вроде позорной робости овладело мною. Я стал думать о том, что моя мысль – идти в стан к Pee – была безрассудной. Помочь ей я не мог ничем, но легко мог погибнуть вместе с нею или, по меньшей мере, быть схваченным среди мятежников. Тогда, наверное, я снова попал бы в подземелье и на этот раз, вероятно, не миновал бы пытки и рабской смерти. Эти размышления убедили меня, что Гесперия поступила правильно, отказав мне в своем разрешении, и я готов был радостно ее благодарить за то, что она спасла меня от немалой опасности и от поступка безумного. С такими мыслями я и заснул.
Но утром Гесперия призвала меня к себе и сказала мне:
– Юний, я передумала, ты можешь идти в лагерь христианских мятежников, я это тебе разрешаю.
– Нет, нет, – возразил я, – ты была права, мне не следует идти к ним, я остаюсь с тобой.
– Нет, – ответила, в свою очередь, Гесперия, – ты пойдешь к ним. Я не хочу, чтобы ты думал, что я запрещаю тебе видеться с твоей возлюбленной. Иди и делай с ней, что хочешь, но только возвратись сюда до истечения восьми дней. После этого срока я уеду одна.
Я стал спорить, уверяя, что у меня более нет никакого желания видеть Рею, что накануне я был безумен, выразив такое намерение. Но снова Гесперия сдвинула брови и снова строгим голосом приказала мне повиноваться ей.
– Я так хочу, – повторила она. – И притом ты действительно можешь быть там полезен нашему делу. Я найду для тебя надежного проводника. Ты проникнешь в самое сердце мятежа и потом расскажешь мне все, что там видел и что там делал.
Я увидел, что спорить бесполезно, и так уже привык к неожиданным переменам решений Гесперии, что в конце концов не слишком изумился. Правда, ночные соображения еще несколько тревожили меня, но все же втайне я был рад вновь увидеть Рею. Поэтому я подчинился приказаниям моей госпожи, повторив только, что иду к мятежникам не ради женщины. Гесперия же так деятельно принялась за приготовления к моему путешествию, словно то была самая ее заветная мысль. Она вновь вызвала к себе Рустика и попросила его найти для меня проводника, который мог бы привести меня в горы, мимо стражи, выставленной префектом.
Весь день, занимаясь разными делами, принимая разных лиц, Гесперия возвращалась к моему путешествию и торопила Рустика. Когда к вечеру нужный человек был отыскан, Гесперия призвала меня для последних указаний и советов. Она говорила с деловым видом, холодно, словно отдавая приказание домоправителю.
– Лепонций Кунигаст, – говорила она, – проводит тебя завтра утром до самых мест, занятых мятежниками. Дальше ты должен будешь найти дорогу сам. Высмотри у христиан все: их силы, их вооружение, их способы сражаться; узнай все их потаенные замыслы. Намекни им о той борьбе, которую мы начинаем. Если удастся, убеди их подождать с решительными действиями, временно скрыться, рассеяться в горах и потом нанести удар одновременно с нами. Это все ты должен сделать, и да помогут тебе боги, прежде же всех быстрый посол Меркурий. Теперь слушай дальше. Здесь, в Медиолане, я буду ждать тебя до ближайшей нундины, и если к тому времени ты не вернешься, поеду дальше, в Галлию. Ты же, если тогда будешь жив, не возвращайся в Медиолан, но попытайся добраться горными дорогами в Генаву. Там, около города, есть поместье нашего верного друга, Мания Вибиска. Назови ему мое имя, и от него ты узнаешь, где я. Тогда спеши за мною, я буду ехать медленно, так как у меня много дел по пути. Ничего не говорю тебе о том, как ты должен хранить в чужом стане и среди врагов, если попадешь в их руки, наши тайны: это ты сам знаешь. Теперь же возьми это.
И опять, как много месяцев назад, Гесперия подала мне кошелек с деньгами и кинжал. У меня не было ни оружия, ни денег, и я не мог отказаться от такого дара, но воспоминание о первом поцелуе Гесперии так мучительно сдавило мое сердце, что я едва не заплакал при этих спокойных, строгих словах, так непохожих на страстный шепот того другого дня.
– Гесперия! – воскликнул я. – Когда-то ты предложила мне те же две вещи, помнишь, с ними ты дала мне свои губы. Дай, дай мне их и сегодня, и тогда ты будешь уверена, что я скорее умру за тебя, чем сделаю одно движение, которое может тебя обидеть.
Я уже протянул руки, чтобы обнять женщину, но она своим обычным движением уклонилась от моего поцелуя, хотя эти последние дни, во время нашего переезда, я целовал ее так много раз. Решительно отстранив меня, Гесперия сказала:
– Ты не получишь сегодня моих губ. Они останутся у меня как залог твоей верности. Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу. Иди с этой надеждой, а теперь – прощай.
Повернувшись, Гесперия вышла из комнаты, и я ее достаточно знал, чтобы не настаивать больше. Глаза стали у меня влажными от обиды и горя. «Я вернусь достойным ее!» – сказал я сам себе, и образ Реи представился мне в ту минуту таким чужим, таким ненужным, что я опять проклинал себя за свою глупую затею. Мне казалось, что я готов отдать все, только бы не быть принужденным ехать в стан мятежников, остаться с Гесперией, продолжать с ней наше путешествие.
Несколько успокоившись, я рассмотрел дары Гесперии. То был прекрасный испанский кинжал, на ручке которого был красиво изображен бог Меркурий с факелом и вырезаны два слова: «Disce mori». В кошельке было золото и серебро и письмо к какому-то аргентарию Генавы с приказанием выплатить подателю еще две тысячи денаров. Я подумал о том, как внимательно позаботилась обо мне Гесперия, и это меня несколько утешило.
В тот день я более не видел Гесперию: она намеренно не хотела мне показаться, чтобы у меня в воспоминаниях осталось то ее лицо, какое я видел в час нашего прощания. Только какой-то раб, по ее приказанию, передал мне, что я должен быть готов в начале четвертой стражи. Действительно, еще было темно, когда ко мне в дверь постучались. Но я уже не спал и, быстро одевшись, вышел на зов. Неизвестный человек в простой одежде стоял у дверей и спросил меня на плохом латинском языке:
– Это ты, кого я должен проводить в горы?
Я ответил утвердительно и вернулся в свою комнату, чтобы сделать последние приготовления к пути. Я спрятал монеты и денежное письмо под платьем, а кинжал прикрепил у пояса, чтобы оружие всегда было у меня под рукою. Через несколько минут мы вышли вдвоем с моим вожатым из дома Тита Коликария. Аврора едва лишь успела растворить ворота неба, и легкая прохлада еще плыла по пустым улицам императорского города.
III
Пройдя почти весь город, мы вышли через ворота, причем мой проводник предъявил стражам пропуск, подпись под которым заставила их оказать нам знаки величайшего почтения. Недалеко от городской стены, в маленьком диверсории, нас ждали оседланные лошади. Все эти доказательства внимания, проявленного ко мне Гесперией, опять исполнили мою душу чувством умиления.
На лошадях мы поехали по прекрасной дороге, шедшей прямо на север. Мой спутник плохо владел латинским языком, а я не понимал его странного горного наречия; кроме того, он вообще был, по-видимому, неразговорчив, и мы подвигались вперед молча. У меня было время предаваться своим размышлениям, и я думал о Гесперии. Я вспоминал все, что она говорила мне на прощание, ее поступки, ее лицо, и новая волна радостной любви заливали мою душу.
Мне казалось несомненным, что отпустила меня Гесперия только из чувства ревности, которая, как все в ее душе, принимала формы обратные, чем у других женщин. Догадавшись, что меня влечет к Рее, что мне томительно хочется еще раз ее увидеть, Гесперия почувствовала себя оскорбленной, именно как женщина. И тогда как для всех других это послужило бы причиной воспретить мне мою поездку, она, напротив, настояла на том, чтобы я отправился в стан мятежников. Именно потому, что она ревновала меня, она желала дать мне все возможности ее ревность оправдать. Так думая, я впервые в жизни начинал верить в то, что Гесперия меня действительно любит.
Потом мои мысли обратились к тому месту, куда я направлялся. Я стал думать о Рее и в том порыве любви, нежности и благодарности к Гесперии, который владел мною, я тут же давал себе клятвы не поддаваться более хитрым искушениям девушки. «Гесперия, – восклицал я в душе, – я оправдаю твое доверие, оправдаю более, нежели ты ожидаешь! Я скажу Рее, что ее не люблю, что ее замыслы мне вполне чужды, что я не христианин и не сторонник ее религии Змия и Антихриста, что я чту и всегда буду чтить богов бессмертных! Я скажу Рее, что явился лишь затем, чтобы спасти ее от неизбежной гибели под мечом легионариев. Я ей предложу бежать со мною, а если она откажется, то мне не в чем будет себя винить. И на все ее безумные заискивания и льстивые ласки я сумею ответить строго и холодно. На всем круге земли я не хочу другой женщины, кроме Гесперии, прекрасной, мудрой, великой Гесперии!»
И вполголоса я повторял те слова, что мне сказала Гесперия на прощание: «Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу», – слова, заставлявшие мое сердце усиленно биться предвкушением какого-то неведомого счастия.
Между тем мы продолжали подвигаться вперед по той же прекрасной дороге. Сначала она была окаймлена садами и возделанными полями, но потом все чаще стали встречаться покинутые дома и заброшенные нивы. В некоторых селениях, через которые мы проезжали, едва ли не половина всех жилищ стояла с дверями и окнами, заколоченными досками. Я беспрестанно порывался ускорить шаг коня, чтобы поскорее достичь стены Альп, которые все отчетливей и величественней вырисовывались передо мною, но мой проводник сдерживал мое нетерпение, говоря, что все равно нам должно будет прервать наше путешествие, чтобы в утреннем сумраке обойти отряды, выставленные префектом на тропах, ведущих в горы. Мы позавтракали с моим молчаливым спутником в дорожной стабуле, причем пропитание показалось мне достаточно скудным после роскошных пиров, на которых я участвовал за последние дни, и потом продолжали наш путь на север, пока не достигли первых холмов. Здесь мой проводник объявил, что мы должны остановиться, хотя было еще совершенно светло и мы могли бы еще до темноты достигнуть берегов Комацея.
Ночь мы провели в хижине какого-то пастуха, вместе с ним и его свирепыми собаками, похожими на леопардов из цирка, тесной и душной. Но еще до пробуждения Эос проводник уже разбудил меня, торопя в путь. Лошадей мы оставили у пастуха, а сами отправились окольными путями, по каким-то, едва различимым, тропинкам. Горная местность едва начиналась, но торжественные вершины, на которых не постыдился бы избрать свое местопребывание сам отец богов и царь людей, сверкали своими снегами в ясной утренней мгле и казались странно приближенными к нам. Спотыкаясь о мелкие камни, цепляясь за кусты там, где приходилось идти вдоль обрывов, я не мог не любоваться красотой страны, которая венчает Италию, как диадема императора.
Мы то подымались на самый гребень холма, то вновь спускались в долину, чтобы начать новое восхождение. С одной из вершин мой проводник показал мне рукою вдаль и сказал кратко:
– Новый лагерь.
Я смутно различил вдали правильный четырехугольник окопов и рвов, и мне даже показалось, что я вижу значок, поставленный перед преторием и трибуналом. Странно, что какая-то сладкая тоска сдавила мне сердце, словно во мне заговорила кровь моих предков, водивших римские легионы к победам, и словно мне стало больно, что сам я не ношу меча и не привык прислушиваться к звукам военной трубы. Я настолько забыл, что в эту минуту именно римских легионариев должен опасаться больше всего, что готов был рукоплескать и кричать приветствия, как женщины, когда по городу проходит войско.
Когда мы покружили еще около мили, мой проводник сказал мне:
– Дальше ты пойдешь вот по этой тропе, и ты придешь, куда тебе надо. Мы теперь миновали все сторожевые отряды, и мое дело исполнено. Я вернусь обратно.
Поблагодарив моего спутника, я хотел дать ему несколько серебряных монет, но он отказался решительно, сказав, что за все услуги ему уплачено. На своем настоять я не мог, и честный Лепонций, попрощавшись со мною, повернулся и быстрыми шагами стал удаляться, так что скоро я остался совершенно один в местности пустынной и мне неизвестной. Кругом было тихо, как в стране мертвых, никакого признака жилья нельзя было заметить нигде, и одну минуту у меня даже мелькнуло соображение, что проводник завел меня сюда с коварством, чтобы погубить в горах. Однако я поспешно отогнал от себя эту мысль, сел на камне под лучами Феба, палившими уже горячо, и стал обдумывать свое положение, прежде чем продолжать дальнейший свой путь.
С детства я привык к жизни среди книг великих древних авторов, которые всегда были лучшими друзьями моего отрочества, и все годы моей недолгой жизни прошли в безопасности большого города или загородного поместья. Но также с детства непонятное влечение жило во мне, манившее меня к опасностям и приключениям, может быть, отголосок иных чувств, знакомых моим славным предкам, чьи изображения украшают атрий моего родного дома, – мужей, умевших подставлять свою грудь под тучи парфянских стрел, персидских дротиков и под угрозу германских мечей. И теперь, зная, что я окружен врагами, что сзади меня – римские легионарии, готовые схватить меня, как мятежника против святости императора, а впереди – иступленные почитатели Змия, которые, быть может, примут меня за императорского соглядатая и первые предадут смерти, – я не испытывал страха, но, напротив, необыкновенная бодрость разливалась по моим членам. Душа моих предков оживала во мне, исконная душа римлянина-воина, здесь, на этой пограничной полосе, где скоро должен был разразиться бой между сторонниками Грациана и мятежниками, в своем безумии мечтающими установить на земле новую веру и новое царство – грядущего Антихриста. «Дерзающим помогает Фортуна!» – сказал я себе словами моего любимого Вергилия и, встав, пошел по указанному мне направлению.
Около часа я шел вперед, и местность становилась все более дикой и все более гористой, деревья и кусты на приволье росли кругом, закрывая вид на удаленные снежные вершины, но по-прежнему ничто не указывало мне, что поблизости живут люди. Внезапно звуки какого-то пения стали достигать до меня, странно поражая серые скалы и завязая в колючих кустарниках. Я замедлил шаги и сжал рукою кинжал, данный мне Гесперией, готовясь в первый раз в жизни оружием отстаивать свою жизнь и свободу. Тропа в этом месте делала крутой изгиб вокруг почти отвесной скалы, и мне не было видно, кто идет навстречу мне, хотя уже все явственней слышались голоса, среди которых я без труда различил и женские. «Не новый ли Сфинкс ждет меня, как нового Эдипа, на этой горной дороге?» – шутя, спрашивал я сам себя.
И вот из-за поворота показалось странное шествие: впереди шла женщина, одетая во все алое, с обнаженным мечом в руке; ее голова была увенчана белой повязкой вроде диадемы или тех, что носят жрецы. За женщиной двигалась целая толпа в самых разнородных одеждах, большею частью простых, причем все шедшие тоже держали в руках мечи, дубины или ветви. Медленно подвигаясь, все пели некий гимн, похожий на песнопение христианского служения, но слов которого я не мог различить. И когда между нами было уже не более как шагов сорок, я вдруг узнал, что женщина в алом не кто иная, как Pea.
Пока я стоял от изумления неподвижным, Pea приблизилась ко мне, простерла торжественно руку и возгласила:
– Salve, Юний, ожидаемый и желанный, мой брат возлюбленный, приходящий вовремя к новым людям.
И вдруг вся толпа, неистово потрясая мечами, кольями и ветвями, закричала ей в ответ нестройно и дико, почти оглушая меня этим воплем:
– Salve, salve, Юний!
Я не знал, что говорить, что делать, но Pea охватила меня руками, поцеловала в губы и властным голосом приказала своим приближенным:
– На руках несите его в наш храм.
Тотчас, прежде чем я успел сделать одно движение, десяток дюжих рук подхватили меня и подняли на воздух. Через минуту шествие тронулось обратно под пение того же странного гимна, а я неловко колыхался, высясь над головами толпы, и предпочитал подчиняться неизбежному, потому что не мог придумать, как я могу сопротивляться. Впрочем, я воспользовался своим положением, чтобы осмотреть сопровождавшую меня толпу: в ней было не меньше ста человек, из которых больше половины были женщины, все шагали бодро и весело, и мне казалось, что на всех лицах была какая-то неодолимая уверенность и что все глаза были словно у пьяных.
Так мы обогнули отвесную скалу, вокруг которой вилась тропа, спустились в небольшую долину, сплошь заросшую кустарником, и потом вновь стали подыматься на новую возвышенность. Тогда я увидел, что там, прилепясь к другой скале, была расположена семья маленьких домиков, грубо сложенных из серого камня. Из этого селения навстречу нам тянулась новая вереница людей, мужчин, женщин, детей, причем даже казалось странным, что в таком пустынном месте могло быть такое стечение народа, которому негде было даже поместиться.
По мере того как мы приближались к тем, кто шел впереди других, Pea быстро говорила им несколько слов, и все тоже начинали восклицать восторженно:
– Salve, Юний!
Поистине, как триумфатор, я был внесен в это маленькое горное селение, и несшие меня не прежде позволили мне стать на ноги, как когда я оказался перед дверью дома, несколько более обширного, чем другие, украшенной зеленью и грубо сделанным из дерева изображением Змия. То был, как я вскоре узнал, одновременно храм и дворец, и двое простоватых юношей с копьями в руках стояли у дверей, как сторожевые. Pea, подойдя ко мне, позвала меня войти в храм и растворила дверь, толпа же, пропустив нас, почтительно осталась у порога.
В небольшой комнате с земляным полом почти не было обстановки. Часть помещения, впрочем, была отгорожена занавеской, перед которой стояло невысокое ложе, вероятно, знавшее когда-то лучшее соседство, если судить по украшениям в виде позолоченных змей, конечно, и соблазнившим исповедников новой веры. На этом ложе в сладком сне покоился юноша, в котором я тотчас признал нашего Антиноя, представшего нам на ночном собрании змиепоклонников. Подойдя к юноше, Pea легким прикосновением разбудила его и сказала:
– Проснись, Люциферат! К тебе я привела нового брата, твоего предтечу, Иоанна, приготовившего тебе пути царственные! От него ты крещен во Иордане огненном, и ныне ты воздай ему по заслугам его.
Юноша оглядывался, столь же изумленно, как я, и тоже, как я, не знал, что отвечать. Тогда Pea обернулась к народу, продолжавшему с любопытством толпиться у двери, и, повысив голос, заговорила, обращаясь ко всему сборищу:
– Люди новые! Исполнилось последнее ожидание наше! С нами тот, кого мы так долго тщетно ждали. Теперь заполнено все число апостолов ваших и не страшны нам мечи врагов наших и угрозы, преследующие нас. Посланники князя воздушного станут на защиту нашу и слепотой поразят всех, кто подымет руку на нас. Радуйтесь, люди новые, слава великая уже осенила вас и торжество великое ожидает нас. Народы всех земель поклоняются нам, и из нас изойдет спасение миру. Теперь разойдитесь по домам, потому что свершили мы, что было нам предназначено, а вечером вновь мы соберемся на молитву общую Господину нашему. Тогда узнаете, что нам предстоит. Идите.
Повинуясь приказанию Реи, все начали удаляться, и дом опустел, так что в комнате осталось нас трое: Pea, я и мой Антиной, которого теперь называли Люцифератом. Я все еще не промолвил ни слова и все еще не знал, как мне приступить к Рее после нашей долгой разлуки. Но Pea, оставив меня, набросилась с грубыми упреками на красивого юношу.