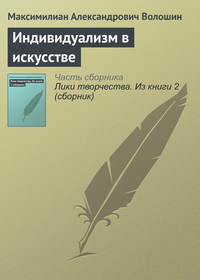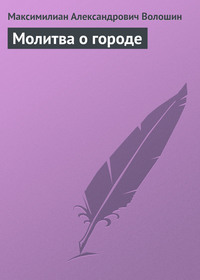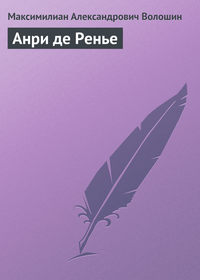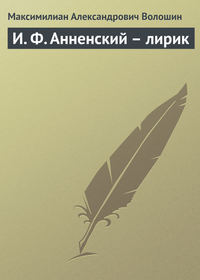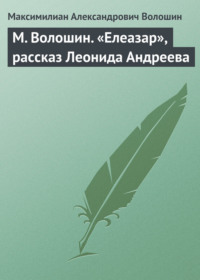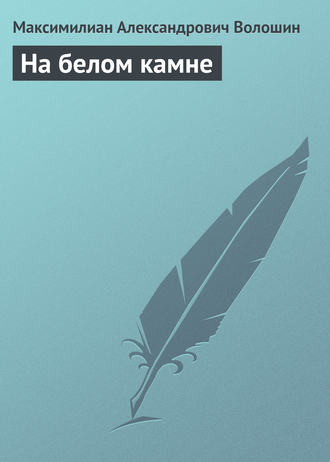 полная версия
полная версияНа белом камне
В самом конце книги Анатолю Франсу от лица Ипполита Дюфрена, другого из собеседников, остается набросать в общих чертах картину коммунистической Европы в 2270 году. На нескольких страницах он дает такую линию продолжения европейской истории. Главная заслуга двадцатого века была – прекращение войны. Постоянный мирный конгресс в Гааге не мог сделать ничего. Но постепенно зародилось другое учреждение, имевшее несравненно более реальный смысл. В парламентах различных государств сформировались группы депутатов, которые вошли в сношения друг с другом и поставили себе правило сообща принимать решения по международному вопросу. Выражая собою мирную волю все большего и большего числа избирателей, их решения приобрели громадный авторитет и влияние на правительство. Последние войны имели своей причиной то буйное сумасшествие старого мира, которое называлось колониальной политикой. Англичане, русские, французы, немцы, американцы оспаривали друг у друга в Азии и Африке области своих влияний и разрушили в этих странах все, что только можно было разрушить. После наступило то, что должно было наступить. Они сохранили колонии бедные, которые стоили им дорого, а колонии благоденствовавшие от них отложились. Постоянные армии, все более и более сокращавшиеся в течение века после отчаянного сопротивления властей и владычествовавшей буржуазии, наконец были упразднены парламентами, избранными всенародным голосованием. Уже давно правители государств сохраняли свои армии не столько ввиду возможной войны, сколько для власти над пролетариатом внутри страны; наконец они уступили. Регулярные армии были заменены народной милицией, проникнутой социалистическими идеями. Тогда монархии, более не защищаемые пушками и ружьями, пали одна за другой и на их месте возникли республиканские правительства. Затем в ту эпоху, когда управляемые воздушные шары и летающие машины вошли во всеобщее употребление, наступило время уничтожения границ. Это был самый критический момент. В сердцах народов, уже столь близких к всеобщему слиянию в великое человечество, снова проснулся патриотический инстинкт. Взрыв национализма вспыхнул одновременно во всех государствах. Но так как не было ни королей, ни армий, ни аристократии, то это движение приобрело характер чисто народный. Отдельные республики единогласными голосованиями своих парламентов и гигантских митингов приняли торжественное решение защищать национальную территорию, национальную промышленность от всякого иноземного вторжения. Были вотированы энергичные законы, воспрещавшие контрабанду летательных машин и громадными строгостями ограничивавшие употребление беспроволочного телеграфа. Снова были организованы народные армии по типу армий прошлых времен. Это возбужденное состояние продолжалось три года без всяких столкновений и наконец постепенно упало. Союз народов стал очень близким, коллективисты все больше и больше овладевали обществом. Наконец пришел день, когда побежденные капиталисты уступили им власть. Хотя все думали, что первым коллективистическим государством будет Германия, но Франция, хотя и менее подготовленная, ее предупредила. Социальная революция сперва разразилась в Лионе, в Лилле, в Марселе. Париж сопротивлялся 15 дней, но наконец и он поднял красное знамя. Только на другой день Берлин провозгласил коллективистический строй. Делегаты всех европейских республик, собравшиеся в Брюсселе, возвестили об учреждении Соединенных Европейских Штатов. Англия отказалась принять в них участие, но объявила себя союзницей. Став социалистической, она все-таки сохранила своего короля, лордов и все свои традиции вплоть до париков своих судей. Американский союз постепенно отказался от воинствующей торговли. Мир наконец находился в благоприятном положении для свободного развития, но тем не менее Соединенные Штаты Европы, принятые с таким восторгом, должны были пережить еще полвека экономических смут и социальных неурядиц. Пятьдесят лет спустя после основания Штатов неудовольствия были так сильны и трудности казались настолько неразрешимы, что даже оптимисты начали приходить в отчаяние. Глухие потрескивания предвещали повсюду распадение союза, и тогда-то диктатура комитета, составленного из четырнадцати рабочих, положила конец анархии и дала европейской федерации окончательное коллективистическое устройство.
Эта часть составляет наиболее слабое место книги Анатоля Франса. Он сам, только что поставивший в упрек авторам социальных утопий то, что они не могут выйти из тесного круга современных им моральных взглядов, рисует картину коллективистического строя, которая может вполне удовлетворить нравственное чувство современных социальных моралистов.
Он совершенно не предвидит возможности прорыва тех «человеческих резервуаров», которые до сих пор стоят переполненные на Востоке, и не допускает, чтобы какая-нибудь иная цивилизация могла заменить европейскую. Он допускает замену человека другим сознательным существом, но не замену белой расы какой-нибудь другой.
Свою книгу он заключает такими словами:
«Уэльс, философ-натуралист, не боящийся своей собственной мысли, сказал: „Человек – это еще не финал“. Да, человек это ни начало, ни конец земной жизни. До него на земном шаре плодились и размножались сознательные формы, и после него будут они развиваться снова. Будущая раса, может быть, происшедшая от нашей, а, может быть, ничего с ней общего не имеющая, примет от нас власть над планетой. Эти новые гении земли нас совершенно не будут знать, а, может быть, просто пренебрегут нами.
Памятники нашего искусства, если они найдут его остатки, не будут иметь никакого смысла для них. Мы так же не можем предугадать разума будущих владык, как палэопитек гор Сивилика не мог предугадать мысли Аристотеля, Ньютона или Пуанкаре».
Как и в этих словах, так и в предшествующей эволюции коллективизма, Анатоль Франс – скептик и моралист, непроизвольно для себя повторяет рассуждения и предположения стоика Галлиона. Вечность Рима и вечность белой расы, конечная гибель мира в пламени и конечная замена человека на земле иным сознательным существом, наконец, наступление царства Геркулеса, заступающего место слабеющего Зевса, которое приводит на ум символические слова Ницше «Земля в своем полете стремится к созвездию Геркулеса», – и окончательное торжество рабочего коллективизма, долженствующего заменить капитализм, все эти наглядные параллелизмы вполне сближают рассуждения Галлиона и Анатоля Франса. Их сила и их ошибка в том, что оба они только логично рассуждают, но не предчувствуют.
К «Трем разговорам» же Владимира Соловьева, с которыми я сравнил в самом начале книгу Анатоля Франса, можно применить мысли Франса об апостоле Павле. Св. Павел ожидал, что мир погибнет в пламени сейчас же, на его глазах – так же, как Владимир Соловьев был уверен, что магистраль Всемирной Истории уже пришла к концу. Франс предполагает, что предчувствия национальных кризисов за долгое время до их наступления могут отражаться в сознании народа и что обыкновенно они предстают в перспективе будущего более громадными и, предчувствующие кризис своей нации, говорят о гибели всего мира. Что было бы, если б Галлион-Франс и Пророк-Соловьев встретились бы. Они-то уж могли бы говорить на одном языке, такие разные умом и такие похожие знаниями, привязанностями и юмором. И конечно, Анатоль Франс не согласился бы с Владимиром Соловьевым и его ужас‹ом› перед панмонголизмом, потому что он и в этом подобен римлянину Галлиону в его презрении к Азии, не признающей законов европейской гражданственности, и уважает Японию только потому, что она приняла их и сумела их применить.
Но чтобы искать объяснения русско-японской войне, надо было отойти в старину, но не на две тысячи лет, как делает Франс, еще на два столетия дальше – к греко-персидским войнам. Положение древних культурных стран Малой и Средней Азии в их столкновении с молодой Грецией обратно, как ‹в› зеркале, отразилось на другом конце всемирной истории. Персия – территориально громадная, объединившая громадные области и племена своей государственностью – грубой, несовершенной, но сильной, страна религии, основанной на морали, – она очень напоминает Россию.
А древняя Греция, только что вышедшая из военного героического периода, страна религии мифологической, а не моральной, страна нового реалистического искусства, основанного на поклонении внешнему миру, нация, не стыдящаяся своего тела и развивавшаяся на старой культуре Египта, разительно напоминает Японию с ее духовной зависимостью от Китая.
Эта неслучайная аналогия дает возможность провести в будущее сотни возможных дорог, оставшихся закрытыми для Анатоля Франса, и многие из них могут совпасть ‹с› назревающим.