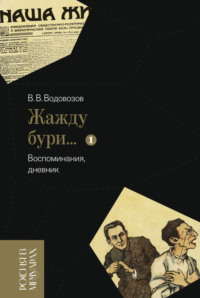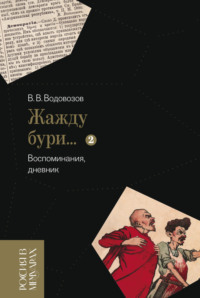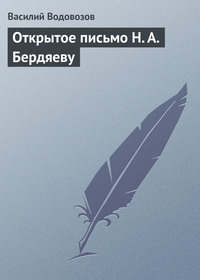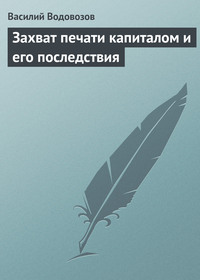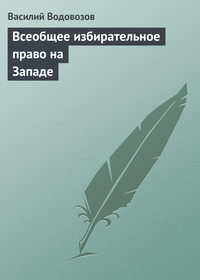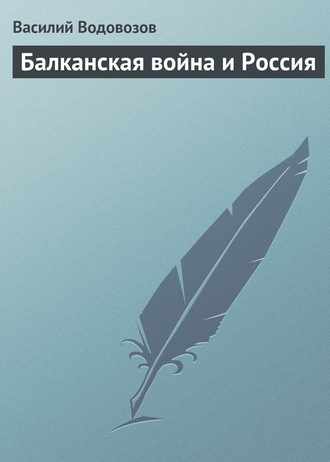 полная версия
полная версияБалканская война и Россия

Василий Водовозов
Балканская война и Россия
Россия потеряла свой престиж на Балканском полуострове и в особенности в Болгарии, – вот одно из немаловажных последствий двух последних войн на Балканском полуострове.
Кому случалось бывать в Болгарии в старые годы, тот хорошо знает, какую любовь внушала к соре там Россия, Каков бы ни был характер тех дипломатических интриг, результатом которых явилась турецкая война 1877-78 года; каковы бы ни были мотивы, руководившие Россией при объявлении ею этой войны Турции; каково бы ни было её значение для внутреннего развития России, – для Болгарии всегда было ясно одно: от турецкой власти, власти тяжелой, власти, не дававшей в свое время простора для развития народных сил, Болгария была освобождена благодаря участью России. Освобожденная Россией, она начала, самостоятельное политическое существование, и первым крупным событием в её внутренней жизни было наделение вчерашних арендаторов и половников собственною землею. Эта мера была бы, конечно, совершенно невозможна при господстве старой турецкой власти. И совершенно естественно, что наделенный землею болгарский мужик питал глубокое, казалось бы, неистребимое чувство благодарности к своей освободительнице.
Когда через 7 лет после окончания войны Болгарское княжество провозгласило свое воссоединение с Восточной Румелией и, таким образом, совершило действие, диктовавшееся насущной потребностью населения обеих половин раскромсанной на берлинском конгрессе страны, то первая вооружилась на него Россия, и вызванный этим событием разрыв дипломатических отношений между освобожденною Болгарией и освободительницей Россией длился почти 10 лет. Тогда симпатии болгарского народа к России подверглись тяжелому испытанию, но вынесли его, несмотря даже на то, что политика России привела к 8-милетнему тиранническому господству Стамбулова, из руссофила обратившегося к этому времени в крайнего русофоба. Руссофобство чувствовалось тогда только на поверхности политической жизни, в поведении правительства, в настроении некоторых, – далеко не всех, – политических партий и небольшой части интеллигенции; в толщу народных масс оно не проникло; в них чувство горячей благодарности и любви к освободительнице оставалось непоколебленным; имя Александра II по-прежнему произносилось болгарами с глубоким благоговением. Да и так называемое руссофобство правительства Стамбулова и тех партий, на которые оно опиралось, вовсе не было настоящим руссофобством, а исключительно стремлением вести самостоятельную, независимую от России, но вовсе не обязательно враждебную ей политику. Так было в эпоху Стамбулова, т. е. до 1894 г., тем более так было и в следующие два десятилетия, когда совершилось примирение оффициальной Болгарии с оффициальной Россией, и когда, у кормила власти чередовались руссофильские и руссофобские (стамбуловистские) кабинеты.
В настоящее время всему этому положен конец. Ни о какой любви и благодарности к России среди болгарского населения не может быть больше и речи. Русский путешественник по Болгарии, чувствует перемену на каждом шагу, при встречах одинаково, как с людьми из народа, так и с людьми из «общества»[1]. До самых глубин народной жизни дошло понимание того, что Россия в последнем конфликте сыграла крайне печальную роль, я что те бедствия, которые переживает Болгария, от которых страдают все классы её населения без исключения, – и буржуазия, и интеллигенция, и рабочие, и крестьяне, – явились результатом не только собственных ошибок, по и политики иностранных держав и в особенности России; чувство обиды, раздражения против этой последней, быть может, даже острее и глубже, чем на это могли бы давать право действительные ошибки русской дипломатии.
Конечно, этим не сказано, что никогда и ни при каких условиях политика Болгарии в будущем не может совпадать с политикой России. Весьма вероятно, конечно, что в том или другом случае Болгария не раз пойдет вместе с Россией и окажется её союзницей, но совершенно в такой же мере она может оказаться союзницей и Австрии или Германии или вообще какого бы то ни было будущего противника России. Это будет результатом сложной игры дипломатических интриг и дипломатических комбинаций. Но то естественное, сильное и постоянное влияние России, которое опиралось на народную любовь и благодарность к ней, это влияние потеряно благодаря политике последних лет, главным образом, во время последних войн.
Война балканских союзников с Турцией начата была с одобрения и благословения России. Без всякого сомнения ей был не только хорошо известен, но получил её одобрение тот договор 29 февраля 1912 г. между Болгарией и Сербией, который лежал в основе начатых осенью военных действий, и который предоставлял ей почетную роль арбитра в будущем споре между союзниками, уже тогда казавшемся вероятным. Более того, он был заключен без всякого сомнения при её деятельном участии. Таким образом, моральная ответственность за войну, столь счастливо начатую, столь печально конченную, лежит в известной доле, и на ней.
Первые победы союзников над турками были встречены русской дипломатией весьма сочувственно. Но лишь только болгары подошли к Адрианополю и Чаталдже и склонны были совершить обходное движение к самому Константинополю, как сочувствие России делу союзников заметно поколебалось. Болгария, конечно, ни одной минуты не мечтала о прочном завоевании Константинополя, которое было бы ей непосильно. Но вступить в него, чтобы в нем продиктовать мир, было бы для Болгарии, как и для её балканских союзников, в высшей степени соблазнительно. Сделать это, однако, не позволила. Россия, которая дала понять болгарскому правительству, что она смотрит с неодобрением на вступление болгарских войск в турецкую столицу. Возможно, что Россия действовала по тайному соглашению с Австро-Венгрией, в силу которого первая отстояла Константинополь от болгар, вторая – Албанию от сербов. Как бы то ни было, но болгары должны были подчиниться.
Во время мирных переговоров в Лондоне в декабре 1912 г. и январе 1913 г. Турция оказалась весьма неуступчивой и решительно не пожелала уступить союзникам Адрианополь с Фракией, хотя и уступала Македонию. Дипломаты, как русские, так и турецкие, умеют хорошо хранить свои тайны, но в болгарских политических кругах существует глубокое убеждение, что Турцию тайно поддерживали дипломаты русские. Во всяком случае Россия в то время не желала, чтобы Адрианополь достался болгарам; турки это. хорошо знали, и громко говорили об этом.
Какие мотивы руководили ею при этом?
Нет сомнения, что русское правительство уже издавна лелеет мечту о захвате Константинополя в свою пользу, и этим объясняется, что всякий раз, когда Турции грозило разложение, Россия отстаивала её целость, считая, что момент для взятия её столицы в свои руки еще не назрел. Поэтому, несмотря на политические симпатии, связывающие Болгарию с Россией, Россия не могла сочувствовать хотя бы временному занятию Константинополя Болгарией, не потому, конечно, чтобы она видела в Болгарии себе конкурента, а потому, что занятие Константинополя, даже временное, могло повести к самым неожиданным последствиям. Что же касается Адрианополя, то этот город является последнею или предпоследнею (вместе с Чаталджой) крепостью на пути к Константинополю из Европы, охраняющей его против всякого нашествия из Западной Европы сухим путем, и переход Адрианополя в чьи бы то ни было руки (кроме самой России) может сделать непрочным будущее обладание Константинополем.
Так объясняют этот странный факт в Болгарии. Я не могу поручиться за безусловную правильность этого объяснения, но во всяком случае за него имеются основания, не лишенные веса.
Как бы то ни было успешность военных действий союзников, превзошедшая все ожидания, явилась первою причиною охлаждения России к союзникам вообще, и к Болгарии в особенности.
В феврале 1918 г. военные действия возобновились и вновь окончились еще более блестящим успехом союзников.
В своей статье (в «Современннике», № 8) я указывал на то, как отразились эти чрезмерные успехи на взаимных отношениях союзников, как они раззадорили их аппетиты и привели сперва к взаимным недоразумениям, а потом и к внутренней междоусобной войне.
Спрашивается, какую роль играли здесь державы и в частности Россия?
26 мая была отправлена из России телеграмма королям спорящих балканских держав, в которой было высказано убеждение, что «решение всякого спора, касающегося применения положений договора 29 февраля, подлежит арбитражу России». Между тем, Болгария настаивала на том, что только спор относительно определенной полосы земли между горным хребтом Шар-Дат на севере и линией Охрида-Паланка на юго-востоке подлежит арбитражу России, все же остальное определенно предусмотрено договором и никакому арбитражу не подлежит). Благодаря этому телеграмма 26 мая была понята на Балканах, как ясно выраженное согласие России с точкой зрения Сербии, а в Болгарии в этом увидели отместку со, стороны России за то, что Болгария не последовала желаниям России и добилась-таки присоединения Адрианополя к своим владениям. Ответ на телеграмму из Болгарии последовал отрицательный. Война между союзниками стала необходимой. Тогда, в последнюю минуту. Болгария испугалась и дала свое согласие на арбитраж без всяких оговорок относительно его объема, но было уже поздно. Война началась.
Во все время военных действий между союзниками симпатии России были явно на стороне Сербии, а не Болгарии, оказавшейся столь строптивой. И симпатии эти имели вполне активный характер.
Напротив, Австрия, обыкновенно враждебная Болгарии, на этот раз выражала ей свое сочувствие, что вполне понятно: расширение Сербии отрезывало Австро-Венгрию от Эгейского моря и наносило тяжелый, может быть, непоправимый ущерб её торговопромышлеиным интересам.
Румыния, всегда шедшая в хвосте тройственного союза, внезапно разошлась с ним, в особенности с Австрией, и направила свои удары против Болгарии. Конфликт с Болгарией сопровождался совершенно необычным, можно сказать, неестественным русоофильством Румынии. Повсеместно в ней созывались митинги, на которых выражались симпатии к России. В течение несчастного месяца, с середины июня до середины июля, пока велись военные действия, общее поведение России поддерживало это убеждение. Когда болгарские войска, одержав несколько побед, взяли на сербской территории Пиротский вокзал и подвигались к самому Пироту, то русский посланник в Софии Неклюдов категорически заявил Даневу, что дальнейшее движение болгарских войск по сербской территории даст повод румынам вступить в Софию; мотивом к этому было выставлено то, что Россия желает локализировать войну на бывшей турецкой территории и не желает допустит её распространения на старые территории сербского и болгарского государств. Однако, когда перед тем сербские войска стояли у Кюстендиля на болгарской территории, то аналогичное заявление белградскому правительству сделано не было, и они были удалены военными усилиями болгар, а не дипломатическим вмешательством России. Таким образом, Россия как бы держала Румынию на привязи, в каждую минуту готовая ее выпустить и награнить на Болгарию. Факт прямого вмешательство Россия в пользу сербов, при чем Россия вынимала для Сербии каштаны из огня румынскими руками, произвел в Болгарии удручающее впечатление. Хотя этот факт оффициально до сих пор не подтвержден, но о нем свободно и откровенно говорили в Болгарии министры, притом министры-руссофилы, связавшие свою политическую карьеру с верой в Россию, и, кажется, он достоверен.
А вот и еще факт, пожалуй, мелкий, но чрезвычайно характерный и веский. – таким он во всяком случае является в глазах болгар.
Когда война была оффициально объявлена, то миссии воюющих держав, как это всегда бывает, оставили столицы своих врагов. Оставила Софию и сербская миссия. Но один из её чиновников, Ненадич, остался в Софии, – и русская миссия объявила, его под своим покровительством, и Ненадич, на которого болгары смотрели, как на сербского шпиона, мог в полной безопасности производить свои наблюдения над ходом событий у своих врагов.
Когда война привела к разгрому Болгарию, то все эти событий дали болгарам основание возложить ответственность за их несчастья на Россию, и былые симпатии болгар к России быстро заменились совершенно противоположными чувствами.
Внешним выражением перемены послужило падение в начале июля руссофильского кабинета Данева и замена его руссофобским и австрофильским кабинетом Радославова, причем Данев на собрании лидеров партий должен был откровенно сознаться: «моя политика обанкротилась». Действительное содержание этой перемены, однако, гораздо глубже и серьезнее: произошел не случайный министерский кризис, за которым через несколько месяцев может последовать возвращение к власти тех же руссофилов, а произошла коренная и роковая перемена в настроении целого народа.
В следующие дни успехи Сербии и Греции показались России чрезмерными, и её отношение к событиям на Балканах как будто несколько изменилось. Но только как будто.
9 июля, когда вслед за сербами, черногорцами, греками и румынами, на Болгарию вооружились также турки, двинувшие свои войска на обратное завоевание Фракии с Адрианополем, то в «Правительственном Вестнике» было опубликовано оффициальное сообщение, в котором наше М-ство Иностранных Дел опровергало известие об его особенных симпатиях к Сербии и говорило:
«Россия, как впрочем и все другие державы, не может допустить чрезмерного умаления и унижения Болгарии. Не преследуя никаких иных целей, кроме скорейшего умиротворения на Балканах, Россия уверена, что все великия державы разделяют в этом отношении одинаковые взгляды. Обстоятельство это дает основание полагать, что и в вопросе о выступлении Турции державы найдут способы и средства заставить уважать принятые ими решения».
Однако, обещание было очень скоро и основательно забыто. Россия допустила «чрезмерное умаление и унижение Болгарии», и притом совершенно одинаково как в пользу её вчерашних союзников, так и в пользу вчерашних врагов, турок, так, наконец, и в пользу румын.
Правда, немедленно после подписания бухарестского мира (28 июля) Россия заявила о том, что она не считает трактата окончательным и будет настаивать на его пересмотре. В этом заявлении она оказалась в, странном согласии с Австро-Венгрией и разошлась со своей ближайшей союзницей Францией, которая отстаивала интересы Греции. Спор шел, главным образом, о Кавале. которая по бухарестскому миру досталась Греции, и на которую при поддержке России претендовала Болгария[2].
Но сама Россия не смотрела, серьезно на свой протест и взяла его назад без всяких затруднений. Мир был ратификован правительствами всех заинтересованных держав уже через несколько дней после его подписания, ратификован без всякого протеста со стороны России, и немедленно вступил в силу. Фердинанд так торопился с ратификацией мира, что пренебрег даже прямым и ясным предписанием конституции[3].
То же самое случилось и с другим обещанием России «найти способы и средства заставить (Турцию) уважать принятые (державами) решения», и Турция без всякого протеста со стороны России отняла у болгар Адрианополь с восточною половиною Фракии, даже с правым (западным) берегом Марицы.
Что выиграла Россия благодаря своей политике, что могло бы послужить для неё компенсацией за потерю престижа в Болгарии?
Благодарность Сербии? Эта благодарность весьма сомнительна. Во всяком случае пока она не проявилась ни в чем реальном, а когда у Сербии обнаружились трения с Черногорией, то как о возможном арбитре в споре и в Сербии, и в Черногории заговорили не о России, а о Греции или Румынии.
Ослабление Австрии? Это ослабление действительно имеет место благодаря усилению Сербии и затруднению для Австрии доступа на Балканский полуостров. Но зато это ослабление до некоторой степени компенсируется неизбежным в ближайшем будущем сближением Австрии с Болгарией, а затем, еще в большей мере оно было бы достигнуто, если бы на Балканах был водворен прочный мир вместо взаимной ненависти мелких держав, которою Австрия, конечно, будет во многих случаях пользоваться[4].
Единственной пока известной реальной выгодой, полученной Россией от её политики, является факт невступления болгар в Константинополь, факт, ценность которого, однако, с точки зрения интересов России весьма и весьма проблематична.
Таким образом, балканская политика России в последние два года едва ли не должна быть признана грубой ошибкой даже с точки зрения самой русской дипломатии; еще строже должна быть её оценка, если мы будем оценивать ее с точки зрения общих интересов цивилизации и культуры[5].
Сноски
1
Вместе с тем он не может не заметить и того, что болгары научились отделять русское правительство от русского народа и, относясь по-прежнему с симпатией к последнему, обвиняют исключительно первое.
2
Кавала имела для Болгарии значение, во-первых, потому, что она является важным портом на Эгейском море, способным конкурировать с Салониками, во-вторых, потому, что её окрестности Весьма плодородны и служат центром культуры табака, едва-ли не лучшего в мире, так что её приобретение могло бы до некоторой степени возместить потерю Добруджи в пользу Румынии. Существует указание, что русское правительство отстаивало Каивалу ради некоторых фирм, заинтересованных в эксплуатации кавальского табака болгарами. На этом объяснении русского требования настаивает Raymond Reeouly в статье по поводу бухарестского мира, напечатанной в № 9 за 1913, «Revue politique et parlementaire» (стр. 584), журнала, весьма сочувственного франко-русскому союзу и политике Сазонова.
3
На грубое нарушение болгарской конституции при ратификации мирного договора до сих пор, кажется, никто не обратил внимание, а между тем оно имело место. Ст. 17 конституции для ратификации всякого мирного договора требует согласия народного собрания, а ст. 141 допускает уступку или обмен территории не иначе, как с разрешения специально для того созванного Великого Народного Собрания и притом с разрешения квалифицированным большинством голосов (не менее §). Бухарестский договор заключал в себе уступку в пользу Румынии очень ценной территории – всей болгарской части Добруджи с 300 000 жит., т.-е. около части государства, и тем не менее царь Фердинанд подписал его, не созвав Великого Народного Собрания и даже не испросив согласия обыкновенного.
Нельзя не заметить впрочем, что нарушение конституции вызывалось положительной необходимостью: избрание Великого Народного Собрания потребовало бы нескольких месяцев, а, между тем, откладывать подписание мира значило идти на окончательное разорение страны. Вероятно, этим соображением объясняется то, что никто не счел нужным подчеркнуть юридической, неправильности акта царя Фердинанда.
Любопытно, что и во время самых мирных переговоров был нарушен., и притом не одной Болгарией, а всеми, если не прямой закон, то твердо установившийся обычай. В силу международного обычая, уполномоченные держав первоначально обмениваются своими полномочиями, и лишь, найдя их в полном порядке, приступают к переговорам. На это обыкновенно уходит первый день переговоров. На этот раз, все так торопились приступить к самым переговорам, что обычай был пренебрежен, конечно, без всякого ущерба для дела.
4
Эту сторону дела недостаточно оценил Отто Бауэр в статье, напечатанной в 10-й книжке Современника, в которой он говорит о потерях Австрии благодаря последним событиям на Балканах.
5
Весьма удивительная оценка балканской – политики русской дипломатии дана П. М. Милюковым, в речи, произнесенной им в Гос. Думе при обсуждении бюджета министерства иностранных дел еще 6 июня 1913 г., т.-о. через месяц после окончания войны с Турцией и за полторы недели до начала союзнической войны, следовательно, уже тогда, когда характер русской политики вполне определился. Милюков настаивал на том, что определение пограничной линии, которая, в случае неудачной войны, должна была разделить сербские и болгарские владения Македонии, была «счастливым результатом нашего (русского) влияния при составлении договора 29 февраля 1912 г.». Сделав ряд «частных», по его собственному признанию, упреков, министерству иностр. дел, Милюков, счел долгом «констатировать, что с момента объявления войны» (речь идет о первой войне союзников с Турцией), деятельность нашей дипломатии заслуживает всякого сочувствия, и «я (Милюков), по крайней мере, с своей стороны, старался оказать этой деятельности всякую поддержку».
Я совершенно не в состоянии понять, каким образом Милюков, считающийся – и не без основания – болгарофилом, вместе с тем человек, превосходно осведомленный в балканских делах, мог сочувствовал поведению нашей дипломатии во время турецкой войны. Тем менее в состоянии я понять, как мог Милюков признавать счастливыми условия договора 20 февраля о разделе македонских владений.
Это может делать лишь тот, кто совсем не считается с интересами народных масс, или же тот, кто, подобно сербским этнографам, признает население Македонии разноплеменным. Между тем, тот же самый Милюков, в той же самой речи, говорил:
«Дело свободы и независимости балканских народов есть в то же самое время и дело нашего русского интереса» (Стеногр. отчет, там же, стран. 1020).
И тот же самый Милюков, и в той же самой речи признавал единство македонской народности: «какова бы ни была народность, живущая в Македонии, говорил он, это есть одна единая народность на всем протяжении этой страны. И допустить возможность делить этот живой организм на части, кромсать его по вершкам и по аршинам, для меня невозможно. Это значило бы вернуться к тем временам дипломатии, которые характеризуются мероприятиями венского конгресса, столетие тому назад» (Но, ведь, как раз это самое делал «счастливый» договор 29 февраля!). «Я полагал бы, что наиболее естественным решением вопроса было бы не болгарское и не сербское, а македонское. Наиболее естественным было бы то решение, которое предоставляло бы Македонии автономию в её полном составе. К сожалению, я должен оказать, что такое решение сейчас практически невозможно. Совершился акт раздела по договору 29 февраля, акт насильственный, акт, произведенный втайне от собственного мнения обеих стран». (Каким образом эти слова мирятся с приведенной выше характеристикой линии раздела по акту 20 февр., как счастливой?.. «Но тем не менее, я готов признать этот акт необходимым, ибо без него невозможно было бы сербско-болгарское согласие, невозможно было бы и освобождение той страны, о которой идет речь, – освобождение Македонии. Следовательно, надо признать этот насильственный раздел за совершившийся факт. Но, признавая его за совершившийся факт, не идите, по крайней мере, дальше в том же направлении. Отрезавши от единой целой, по своей народности, Македонии северо-западный угол, не режьте окончательно страну на две или на три части» (Стеногр. отчет Гос. Думы, 1912, ч. III, стран. 1028).
Прежде чем признавать акт 20 февраля необходимым, а тем более счастливым, Милюкову следовало решить, можно-ли было платить такою ценою, как передача части македонского народа под власть чуждой ей Сербии, за сомнительное освобождение другой её части. Противоречия Милюкова в его речи, – речи, несмотря на все её дефекты, богатой ценными фактами и ценными мыслями, по-видимому, можно объяснить одной его чертой. Везде и всюду Милюков стремится быть реальным политиком, а реализм его политики состоит в стремлении урвать у политических противников хоть шерсти клок путем мелочного соглашательства, уступок и торга. Такова его политика в области внутренних вопросов, где он постоянно торгуется с торжествующей реакцией, и такова же она в области политики иностранной.
Дело свободы балканских народов есть в то же время дело русского интереса, – это прекрасно понимает Милюков.
Свобода македонского народа может быть обеспечена только его политической автономией, это тоже прекрасно понимает Милюков.
Из этого следует вывод: всякая политика, направленная к насильственному разделу Македонии, является, как с точки зрения интересов балканских народов, так и с точки зрения интересов русского народа и, наконец, с точки зрения прогресса всей Европы, всего человечества, либо несознательной ошибкой, либо сознательным преступлением.
Но этого, логически неизбежного вывода, Милюков не хочет сделать.
Он говорит: «Такое решение сейчас практически невозможно». Сейчас, т.-е. в начале июня, но то же самое говорил Милюков и в январе и феврале 1913 г. Почему невозможно? Потому, что его не хочет ни болгарская, ни сербская, ни русская дипломатия. И вот, вместо того, чтобы строго осудить эти дипломатии, признав направление их деятельности враждебным интересам народов и прогресса, Милюков ищет выхода, находит его во взаимных половинчатых уступках, старается убедить дипломатии разных стран уступить хоть что-нибудь, – и, конечно, своей цели не достигает, и его якобы реальная политика оказывается совсем не реальной, как не реальной оказалась и политика болгарского правительства, с презрением отвергшего идею плебисцита в Македонии и в надежде на легкую победу начавшего войну.