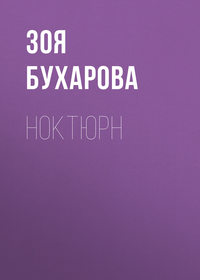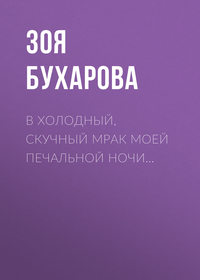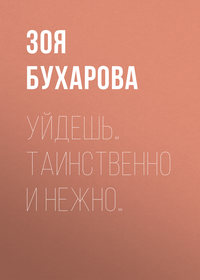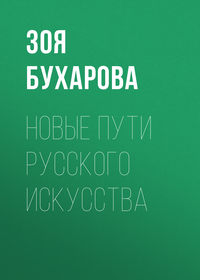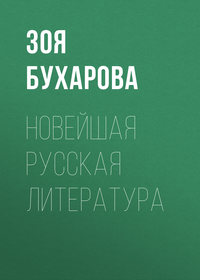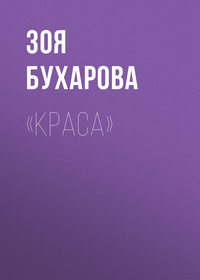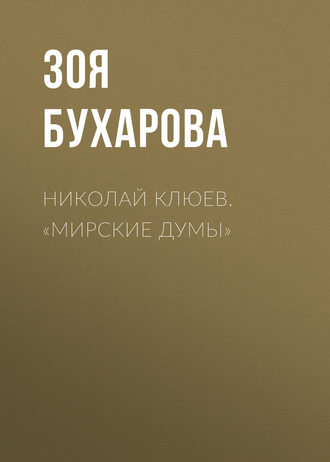 полная версия
полная версияНиколай Клюев. «Мирские думы»

Зоя Дмитриевна Бухарова
Николай Клюев. «Мирские думы»
Имя Николая Клюева появляется за последние годы на страницах многих ежемесячных и еженедельных журналов; поэтом издано уже два или три сборника, в свое время внимательно отмеченных серьезной критикой, но только последний из них «Мирские думы» – действительно и полно отражает свежую, яркую, самобытную творческую личность автора, певца русской деревни и русского эпоса.
Мы так долго жили в недостойном рабстве у Запада, что совсем еще недавно все национальное должно было великим трудом пробивать себе дорогу. Но война, переоценив все ценности, вернула русскую душу к родным истокам. Мы стали жадно прислушиваться к голосам деревни, изучать ее быт, вспоминать ее предания, искренно и наивно изумляясь неожиданно обретенным сокровищам духа и мысли. Это все было наше! Все было с нами! Это подарило миру чудеса смиренного подвига, красоту несравненного героизма, а мы не знали, не видели, забыли, променяли на разную западную безвкусицу и трескучую дешевку модернизма!.. На благодарную, подготовленную почву пало в настоящие дни творчество Николая Клюева – самого талантливого, мудрого и цельного из цикла поэтов-крестьян, стоящих совершенно в стороне от всех столь противоречивых литературных течений последнего времени. «Мирские думы» обвеяны духом чрезвычайной значительности, духом исключительного, сосредоточенного единства; но вместе с тем в них запечатлена вся русская деревня в ее прошлом и будущем, в ее молитве и горе, в ее быте, в ее природе. Многие осуждают Николая Клюева за то, что в прекрасных песнях своих он неизменно пользуется местными словами и выражениями нашего севера, которых мы не понимаем (поэт – уроженец Олонецкой губ.), упоминает предания и легенды, которых мы не знаем. Поистине странный упрек!.. Ведь допускаются же некоторыми из нас нелепые словообразования футуристов и прочих «истов», в большинстве случаев совершенно лишенные всякого смысла и красоты. А за обогащение языка живыми, естественными перлами славянизма поэта, вместо благодарности, осуждают и казнят… Правда, некоторые этнографические указания и примечания не испортили бы «Мирских дум», но и без них истинному любителю родного быта и родной старины открыты в этой книге все ее тайны, которые поклонникам Игоря Северянина и его присных останутся, конечно, недоступными навсегда.
Поэт зачаровывает читателя с первых же строк первого отдела «Мирских дум»: «Памяти храбрых»:
В этот год за святыми обеднямиСтроже лики и свечи чадней…и дальше – страница за страницей, строфа за строфой – тепло и четко раскрывается взволнованному сердцу жизнь осиротелой, тоскующей, молитвенной деревни наших дней. Вот (стр. 9-я) поэт обращается к родной ниве, избе, дороге, ели, спрашивая их о причине их грустного преображения. И звучат ему полные тихой, покорной скорби ответы – такие простые, такие крестьянские и такие мудрые в своей просветленности. Вот благоговейно приникает он к «покойным солдатским душенькам» – «Поминный причит», причитая над ними исконно русским говором «сказителя», из глубины неколебимо верующей народной души, обещая им умилительно-реальные райские награды за кровавые муки земных подвижнических страданий… А вот и лучшая жемчужина сборника «Беседный наигрыш», который несомненно навсегда останется ярким памятником современного крестьянского эпоса, подлинно народного приятия переживаемой миром и родиной стихийной трагедии.
Этот истинно былинного духа и тона народный «сказ» о «Вильгельмище, царище поганом» врезается в мысль обоюдоострым впечатлением красоты и боли, старины и злободневности, религиозного предания и языческой легенды… При чтении его настойчиво вспоминается бессмертное «Слово о полку Игореве», и вспоминается не столько ради внешнего, стильного сходства, сколько благодаря таинственной внутренней общности, повторившей сквозь мглу веков мощную в самом надрыве своем правду потрясенной души народа.
«Песни из Заонежья», составляющие второй отдел, прелестны своим тонким, выдержанным, непритянутым, ненадуманным юмором, включающим в себя много драгоценных бытовых черточек. Язык их, как и вообще у автора, безупречен, форма также. Но все же они уступают первому отделу, сразу ставящему Николая Клюева на художественную и этическую высоту «Божьей милостью поэта», носителя самых светлых, самых желанных, самых дорогих нам ныне воспоминаний, чаяний и надежд.