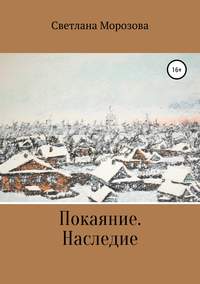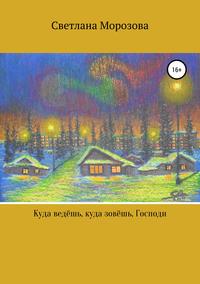Полная версия
Те, кого приручали
«Серый камень, серый камень, серый камень – сто пудов, серый камень так не тянет, как проклятая любовь!» – голосисто начинала Манька. Ей в ответ немедленно вступала Алена: «Посватай, миленький, меня, отчаянну головушку, если денег не дадут – попроси коровушку!» Затем Ульяна басом: «Приневолили родители идти за дурака. Не видала в жизни радости, избиты все бока!» Потом Верка заливисто: «Снеги белы, снеги белы были да растаяли. Хотел миленький сосватать, да люди расхаяли!» Снова Манька: «Сошью кофточку по моде, красный бантик на боку. На лицо я некрасива, но работой привлеку!» Потом Варвара с притопом: «Сошью кофточку по моде, на заду четыре шва. Кабы дроличка посватался, радешенька пошла!» И так – бесконечно, сменяя одна другую. Иногда в этот перепев встревал гармонист. Оглушительным басом, переходящим в дискант, возьмет да и проорет: «Ох, мне бы бабу, мне бы бабу, д мне бы бабу в сто пудов!» Девки в ответ взвизгивали и снова начинали свою частушечную канитель: «Ох, глазки мои, серые прищурочки, один Ваньке морганет, а другой – Шурочке!», «Раздайся, народ, чернобровая идет! Чернобровая, бедовая нигде не пропадет!»
Слышно было иногда в ночи, как матери звали девок домой:
− Верка, гулена, беги домой, хватит шлендать!
− Дык я схватилась вот и побежала. Ща-ас!
− Какова лешева, ишшо мне перечить, привередничать будешь, шлендра! Вот тятеньке-то скажу – ремнем огреет девку поперечную. Приструнит – мало не покажется!
− Дык иду я, маманя, иду!
Кто трудился, тот богател. Земля – кормилица за труд добром платила. Потом образованная в селе советская власть из комсомольцев да большевиков, в основном состоящая из бывших лодырей-оборванцев да голыдьбы, освоилась. И к тридцатому году активно начала притеснять людей. Быстро определили и разобрались – кто богач, а кто бедняк. Началась конфискация зерна, раскулачивание и коллективизация, чтобы скот, земля, орудия труда – все стало общее, колхозное. Отбирали зерно и скот нещадно, облагали всех непосильными налогами.
И все пошло под откос! Кто нажил трудом, потом и горбом своим зарабатывал богатство, поняли – все прахом пошло! Отберут! Смятение и страх поселились в душах людей. Страх за себя, семью, за будущее. Он не покидал ни днем, ни ночью. Подавленные, они ждали своей участи – вот-вот приедут, заберут все, что нажили, наработали на данной им земле. Прислушивались к звукам в ночи – не зажурчит ли возле дома рокоток воронка. Долго не засыпали и вставали на рассвете. Думы, думы – как жить-то, как сохранить семью, детей, нажитое трудом и потом добро, хлеб, зерно, скот, не давали покоя. Только-только жить начали! Как теперь быть, во что верить?!!
Ничего не понятно, – почему их притесняют? Ведь жили честно, трудились, не крали, не грабили. За что?! Так хочется жить спокойно, работать на себя, верить в будущее, растить детей, учиться, любить и быть счастливыми от простой человеческой жизни.
Но действительность была неумолима и не давала никакой надежды. Слышно было – этих сослали, у тех все забрали. Чей черед?! Стали бояться. По ночам резали скот, зарывали нажитое в землю, зерно прятали.
Людей забирали семьями в ссылки по составленным спискам. К тому моменту, когда к двадцать восьмому году всех гнали в колхозы, у большинства работящих крестьян уже была хорошо налаженная жизнь. В колхоз идти не хотели!
Братья Бугаевы собрались у Евдокима:
− Ну, чё, братья, будем делать-то? Это какой такой колхоз? Всех в одну кучу – эту коммуну, снова все делить поровну? У нас вона сколько заработано всего горбом и хребтом – скот, зерно, земля, мельница, сеялки – веялки. И все этим пустобрехам? Шалопутам, которые языком чешут почище, чем работают руками, им все даром? В колхоз ваш итить?! – накося-выкуси, не дождесси!
− И куда деваться? Хоть в тайгу штоли, куда подальше, переждать. Может все наладится, утрясется? Ведь семьи, дети. Это одному хорошо – с топорком за пояском в лес умотать с глаз долой, а семью кто защитит?
− Да чё там наладится? Не наладится. Тикать надо, пока не поздно, а то загремишь в ссылку, они ведь никого не щадят, ни стариков, ни детей. Глядишь – постреляют, а деток в детдом. А хуже того – с голоду помереть.
− Вон Махонины – братья, говорят, подались в каку-то банду, с чекистами бьются, да грабят. Может, к ним?
− Не дело это, семьи с детьми бросать. Да и разбой – не по-нашему это, братья. Мы же православные!
− В общем, нету просвету, одна темень. Сиди и жди, пока «воронок» прикатит, ночи не спи… Сорок бочек арестантов жди!
− Прятать надо добро в землю, на заимку, куда подальше!
− Да рази-ж все убережешь да спрячешь?
−Все прахом! Только жить начали по-людски. Эх, Расея моя Расея горемычная! Вот и пришло горе-горькое. Шлялось где-то по свету, и на нас, невзначай, набрело.
Евдоким успел на заимке спрятать двух лошадей. Кое-что зарыли в землю, но коров и мелкий скот все же пришлось сдать.
Отобранный у тех, кто не хотел идти в колхоз, скот согнали в заброшенную церковь, закрыли на замок и бросили без присмотра. А ведь его надо кормить, поить и ухаживать! И кто это должен делать? А никто! Не решили! И из закрытой церкви несся протяжный, многоголосый стон обезумевших животных, оставшихся под замком без ухода, еды и питья. Бабы бродили, месили снег вокруг церкви, проклиная все на свете, глотая слезы и воя. И им казалось, что они узнают мычанье, стоны и жалобные хрипы своих несчастных – Маньки, Пеструхи, Чернушки, Буренки, Беляночки…
Вскоре все кончилось – церковь опустела, скот ночью безжалостно порезали и растащили тихо, без шума. И – молчок! Никто не пикнул. Все уже поняли – спрашивать не стоит.
Двери церкви вновь были распахнуты. В ее опустевшее пространство теперь боялись зайти даже пакостники. И многим по ночам казалось, что из церкви доносятся глухие стоны и безумный кровянящий душу, рев несчастных брошеных животных.
И уже невозможно было представить, что когда-то из этого загаженного полуразрушенного оскверненного строения разносился окрест многоголосый благодатный колокольный звон.
Страшные дни настали для многих семей. Подчистую все конфисковали. Люди стали убегать прочь из села. На Коммунар, в Саралу, Ужур, на прииски и рудники, где набирали рабочих и давали места в бараках. Денег платили за работу мало, в основном одежду, еду и обувь. Давали только самое необходимое.
Не согласных с новой властью в тридцать втором году ссылали в Нарым. Семью Дуси Приваловой, которая была подругой Тони, дочки Ольги Павловны, несмотря на то, что они все отдали в колхоз, сослали одними из первых. Привезли и бросили в тайге, выдав лопаты, пилы, топоры. Сами рыли землянки и добывали в тайге еду. Комары да мошки таежные, гнус – кусали нещадно до крови и до смерти. Как-то дотянули, дожили до зимних холодов. А потом, в тридцать третьем году от голодной смерти умерли все Приваловы – отец Дуси 45 лет, братик Коля 9 лет, сестричка Лена 6 лет. Старшие дети Приваловых – Мария, Таня, Дуся и Саша, совсем еще молодые люди, были сосланы кто куда. Они кое-как выжили.
Тоня пошла в школу в двадцать седьмом году. Проучилась в ней всего четыре года, испытывая унижения и обиды. Первый раз пошла в школу – не было ничего – ни тетрадочки, ни карандашика. Ей тогда сшили полосатое платье из старого платья Ольги Павловны, надели на ноги ботинки, которые хлябали, натирали ноги.
Дети постепенно классово отделялись друг от друга. Чувствуя свое превосходство, те, кто относил себя к бедноте, не давали спуску своим классовым врагам – кулакам. Так стали называть тех, кто смог тяжким трудом достичь успехов и обеспечить своей семье достойную жизнь. Не давали Тоне проходу:
− Кулацкая вошь – куда ползешь? – смеялись вчерашние подружки.
Ее дразнили и обижали, она плакала и терпела. А Тоня очень хотела и любила учиться. Особенно любила арифметику и всегда первая тянула ручонку, когда учительница задавала вопросы. Учительница очень жалела эту рыженькую смышленую девочку, этого тихого маленького птенчика с испуганными глазками, очень старательную и сообразительную. Ее то выгоняли из школы, то вновь позволяли посещать уроки. Учительница была хорошая и любила всех ребятишек, неважно чьих – кулацких или бедняцких. Защищала от произвола, как могла. Она была бесстрашная, эта одинокая, молоденькая еще девушка, приехавшая из города в село.
Ее сельчане уважали. Особенно после одного случая с Ванькой Брагиным, тем самым активистом, который особо яростно разрушал церковь. Этот баламут комсомольский не одну девушку испортил, из тех, кто в комсомол вступил. Свобода и равноправие коснулась вседозволенности в отношениях мужчин и женщин. Считалось, что при коммунизме все будет общее. Даже дети, которых как предполагалось, будут воспитывать в детских домах, – чтобы это были настоящие, коммунистические дети. И бабы общие! И если комсомольский товарищ говорил своему товарищу по комсомолу, девчонке в красной косынке: «пойдем на сеновал», или по-походному прижимал ее где-нибудь в темном закоулке, та не смела перечить своему товарищу по комсомолу. Сношались скоропостижно, как кобель с сучкой, обнажая необходимые части тела. И – разбегались.
Так вот, Ванька как-то собрался и вечерком приперся к учительнице, на которую давно глаз положил. Пришел, якобы поговорить по вопросу о классовой непримиримости в переходный период борьбы за власть. Он недолго разглагольствовал, сколько надо, для разогреву. И быстренько приступил к своей цели. Стал подбираться поближе к учительнице, лапать ее и, похохатывая, уже намеревался повалить на высокую, беленькую, аккуратно заправленную кроватку:
− Ну, чё ты, давай, не ломайся! Я, может, жениться к тебе пришел, а?
А она, вместо того, чтобы радоваться, что «такие люди» ей оказали честь, выскользнула змейкой из-под его руки, долбанула его коленкой промеж ног, и вмиг оказалась у печки. Выхватила горящее, все в красных угольях, полено, развернулась, подскочила к Ваньке и он, корчась от боли, увидел, как остужно-строгие глаза ее вдруг полыхнули яростно-насмешливым пламенем. И полетело полено горящее, вырвавшись из ее руки прямехонько в Ванькину бесстыжую морду.
Плохого-то ничего не хотела сделать, только пугнуть да прогнать, а он, дурак, дернулся неловко от неожиданности, да башкой-то рыжей и попал в метнувшееся пламя. Волосы его, пышные да кудрявые − краса и гордость, вмиг занялись, и башка моментально стала черной и лысой. Вот так сразу – была кудрявой, и вдруг – черная головешка с ушами торчком.
Он рванул к двери, а учительница-то сгоряча по инерции еще и полено это горящее снова подхватила и вслед ему запустила, чтоб из избы-то его прогнать. И попало полено прямиком в задницу Ванькину толстенную, обтянутую грязными замасленными штанами. Ванька любил возиться с единственным в селе трактором, и грязные руки обтирал об задницу. Штаны его сзади от этого аж блестели свинцовым блеском, так что заполыхали мощно. Искры летели от этого пламени, оттого, что Ванька летел по улице как пуля, со свистом в ушах и воем, пугая всех черной головешкой.
Вся деревня всполошилась – такая тишина стояла, и вдруг – вой, как труба иерихонская.
Ну, в общем, пока он добежал до кадушки с водой и прыгнул в нее, было уже поздно. Штанов не стало, а то, что от них осталось, свалилось с него, пока он бежал до кадушки, вопя благим матом. Добежал уже в одной рубахе, которая у него была всегда словно жеваная.
С тех пор волос на Ванькиной голове половины не стало с левой стороны на всю оставшуюся жизнь. Не росли больше. Задница его толстенная зажила. Бабка ее месяц мазала гусиным салом.
А вот силища его мужская неуемная как-то вмиг пропала. Утихла навсегда. Девки некоторые были огорчены – такой бугай был! Жалели его сначала, а как узнали – отчего все так случилось, смеялись, особенно парни, так как не любили этого кобеля нахрапистого. При встрече не могли удержаться от насмешки:
–Ну чо, воин, с бабой не справился? – все кудри выдрала, теперя лысиной блещешь?
Вот такие случались дела интересные. Хотел Ванька учительницу эту сдать энкаведешнику, как врага народа, но тот был нормальный мужик и вдоволь от души повеселился, когда Ванька ему все рассказал:
− Ну, все, Ванька, копец тебе пришел, не будут теперечи девки к тебе льнуть, как бывалочи – портки расстегнул, и как мухи на мед летят. Пенек ты, Ванек! Не по зубам, видать, оказалось! Ну, девка! Огонь, а не девка. А че по шее схлопотал – так тебе и надо. Не в свои сани не садись! Да кака-така она «враг народа»? Баба она и есть баба, а эта еще и бой-бабой оказалась, даром что малявка на вид.
Вот такая отважная была первая и единственная Тонина учительница.
Тоне нравилось рисовать цветы красками, которые ей подарила учительница, понимая, что скоро эта девочка навсегда покинет школу и неизвестно какой будет жизнь ее семьи. Тоня рисовала цветы, смастерив из волос кисточку. И рисовала так, что всем нравились ее цветы, а она с радостью дарила свои картинки. Но краски скоро кончились.
Как она завидовала детям, которые учились, и их никто не гнал! Проучилась она всего четыре года. На том и закончилось ее детство, ее школа.
Когда братья Бугаевы достроили свои дома, у них оставалось еще много листвяных бревен и они планировали еще кое-что построить, началось полным ходом раскулачивание и коллективизация. Многие люди уже семьями бросали избы, добро, бежали в лес, спасаясь от преследований и ссылки.
Ждали своей участи и братья Бугаевы. Но пока бежать не решались. Может, минует их беда? Не верили, что можно вот так все отобрать, и всех – в ссылку.
Не миновало! Как-то уже на исходе лета, не поздно еще было, кто-то тихо постучал в окно к Евдокиму. Евдоким отодвинул занавеску, узнал бывшего своего работника Пашу. Паша был комсомольцем и не последним человеком в сельсовете. Евдоким открыл дверь. Паша зашел в сени, но в избу не пошел, сказал:
− Беда пришла, дядя Евдоким. Ты в списке! Завтра вас заберут. Беги прочь, в тайгу, к родным, куда подалече. Ничё не могу для тебя сделать. Я тебя всегда уважал, дядя Евдоким, но спасти не могу. Прости меня! И беги, немедля беги! Авось пронесет, спасетесь.
Евдоким вернулся в избу. Ольга все поняла, сказала только:
− Ну чё делать-то?! Cпасаться надо. Иконы спалили, от Бога отреклись, вот и пришло наказание. Кто поможет нынче? Собирай вещи, Евдоким, детей позже разбудим, пусть напоследок поспят сладко.
Не выдержала, глухо зарыдала:
− Ой, каково нам тепереча будет, как жить-то, Господи?
− Каково, каково! Не до слез, крепись, жена, собирай манатки.
Евдоким повернулся в угол к пустой божнице, горячо замолился, крестясь:
− Господи, прости нас, грешных детей твоих, отвернулись от Тебя, прости! Милостив буди нам, грешным! Сжалься, дай сил и спасения!
Запрягли двух лошадей с подводами, погрузили что смогли – сундук, мешки с одеждой, обувкой, котомки с едой, самовар, швейную машину Zinger, посуду − сколько могли увезти. Евдоким достал из тайника полмешка денег – советских, керенок, и разных других, все, что скопил в эти годы.
Тихо, в кромешной безлунной и беззвездной тьме выехали в тайгу Евдоким, Ольга, Тоня, двухлетняя Нина и двое сыновей Евдокима. Старшая дочь Маруся была уже замужем за Никишей и жила у него. Марфушу решили оставить на краю села в заброшенной бане. Марфуша должна была вот-вот родить. Ольга Павловна узнала это от самой Марфуши, когда та в слезах призналась ей, что встречалась тайком с Матвеем, соседским парнем, и они собирались пожениться. Его родители уже готовились послать сватов, но внезапно их всех забрали ночью и увезли в ссылку. Марфуша долго скрывала беременность, надеясь, что Матвей вернется. Не вернулся. И она, спустя два месяца, призналась в грехе своем Ольге Павловне:
− Мама, прости меня, виноватая я. Не могла тебе сказать раньше, боялась. Ждала, что Матвей вернется.
− Ох, Господи, да за что же нам это послано такое лихо, в такое-то времечко. Что же тепереча делать-то? Ох-хохо! Да что тут делать-то? – рожать будем! Да ты не реви, не ты первая, не ты последняя. Ох, девка-девка, доченька моя ненаглядная, как не во время-то! Кого ждать-то будем – парня аль девку? Хорошо бы парня, хлопот меньше с ними…
Сказала Евдокиму. Тот поскреб бороденку, пригладил, вздохнул протяжно, сказал:
− Жаль, хороший парень Матвей был, может все-таки вернется. Чё делать-то – пущай рожает!
И вот дождались беды – бежать надо куда подальше, прочь от родного порога. Ольга Павловна металась по дому, собирала в дорогу все, что надо, боясь разбудить детей. Глотая слезы, глушила рыдания, не переставая шептать:
− Господи, помилуй и прости, помоги нам, грешным детям Твоим! Не оставь милостью своей, прости, прости…
Перед тем, как тронуться в путь, отвела Марфушу в баню. В темноте, не зажигая огня, при слабом свете из оконца, села с ней на лавку, обняла ее и, стараясь не выдавать боли и отчаяния, твердо заговорила:
− Не реви! Слушай меня внимательно! Нельзя тебе с нами, не выдюжишь, тяжко будет. Побудь здесь. Ни к кому не ходи! Вот тебе узелок – тут все. Родишь, как я тебя учила, оклемаешься. А если невмоготу будет – тут уж зови на помощь. Небось не обидят в таком-то положении. А потом беги за нами. Мы в Парной будем.
И она, срывающимся в несдерживаемых рыданиях шепотом, горячо зашептала молитву. Перекрестила Марфушу, крепко прижала ее пахнущую ромашкой головку, к груди и быстро шагнула прочь, к двери. Пропала во тьме.
В бане на краю села Марфуша три дня пряталась, трясясь от страха, что ее обнаружат. Потом начались схватки. Как она родила в полубессознательном состоянии без чьей-либо помощи – один Бог свидетель. Безумный бред смешивался с явью. Так и не поняла – показалось ей, или, в самом деле появилась перед ней женщина, вроде знакомая. Постояла возле нее, покачала головой и сказала:
– Бежать тебе надо, ищут тебя, дитенка отберут, а тебя – в тюрьму отправят!
И – как растаяла, исчезла.
Сколько прошло времени, Марфуша не знала. Измученая, полуживая, приходя в себя, долго лежала, обняв свою девочку. Искусала губы в кровь от боли, ужаса и отчаяния, силясь сдержать рыданья. Потом, успокоившись, всю ночь лежала без сил, осознавая всю безвыходность положения.
Едва стало светать, она обтерла теплой водицей свое дитятко. Исцеловала полумертвыми губами крохотное тельце, завернула в пеленочку. Покормила впервые, неловко и нежно, грудью свою девочку. Лицо ее было застывшим, только слезы катились, когда она пела колыбельную своей крошке:
− Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, Надюшу схватит за бочок, аа-ааа…
Пела долго, пока дочка, тихо посапывая и покряхтывая, сладко чмокала губенками. Пела, глядя вперед ничего не видящим взглядом, тихим, тоскливым, дрожащим, прерывающимся, тоненьким голоском. И думы, думы гнетущие одолевали ее – как она будет бежать сквозь тайгу, добираться одна без помощи с только что родившейся девчоночкой. Добраться-то доберется, можно за неделю, если правильно найдет дорогу. А как быть с дочкой – уход, пеленки, кормление, помыться, дожди, холодные ночи, зверье таежное, гнус, мошки, комарье… Как быть? – подскажи, Господи! Нет, помощи ждать не от кого!
Выла тихонько и рыдала до рассвета молоденькая мама. Покормила грудью проснувшуюся доченьку свою и убаюкала. Когда ребенок уснул, вышла из баньки в утреннюю туманную сырость.
И от безысходности, ужаса и отчаяния, в последний раз отвернув уголок пеленочки и, убедившись, что девочка спит, вытянула руки с драгоценной ношей вперед над обрывом реки и, подняв к небу глаза, разжала ладони. Когда звериный протяжный вопль с хрипом замолк в ее горле, она с ужасом глянула вниз! – но уже ничего не увидела. Только бурлящий поток катился с шумом вдоль редких камней.
Утопила она свое дитятко!
Бросилась прочь от страшного места, продираясь сквозь заросли кустов и буйной травы. Искусанная комарами, уставшая и еле живая, бежала, плелась, бормоча: «Господи, Господи, прости! О-о-о! Нет мне прощения, не замолить! Прости-и-ии!». А слезы лились и лились по ее воспаленному лицу, прорываясь страшным воем и рыданиями. Уставшая, падала в траву. Закутавшись в шаль, утихала. Но во сне видение утопления дочки не покидало ее. Она просыпалась в страхе и возвращалась в явь, которая была страшнее сна, который вновь приходил, чтобы бередить ее душу – короткий страшный сон. Больше недели скиталась по таежным тропам без еды, узелок с едой забыла в баньке. Потом все-таки еле живая, доплелась до Парной, разыскала родных.
Евдоким привез семью сначала в Парную, потом отправились на Коммунар, потом в Ужур, Саралу, боясь преследования. Одна лошаденка вскоре пала – ведь надо было овсом кормить лошадей! Вторую удалось сохранить.
И еще одна беда случилась. Евдоким потерял мешок с деньгами. Деньги эти были разные, скопленные в то самое время, когда власть менялась, и менялись деньги. Евдоким все не мог с ними расстаться, все надеялся наивно, что они ему пригодятся. И вот, видно, где-то в суматохе обронил, потерял мешок непонятным образом. Очень горевал об этом Евдоким. Матерился и рыдал, кляня себя за ротозейство, так и не поняв, что они давно уже потеряли свою ценность.
Когда добрались до Саралы, была уже осень. Кое-как устроились, нашли пристанище и работу на руднике. Сильный, уверенный в себе, Евдоким, всегда спокойно решающий все проблемы, в этой ситуации вдруг ослабел, почувствовав свое бессилие перед несокрушимой бедой, которая все-таки не обошла стороной, коснулась его семьи и вмиг лишила его способности влиять на ход событий. Осознавая свою ответственность, он, внешне еще сохранявший спокойствие, вдруг круто запаниковал, чувствуя животный страх за свою семью, детей, крошку Нину, которая на глазах таяла от уродующего, сжирающего ее нежное детское тельце, рахита.
− Вот блядсво-то како началось, чистое блядство осатанелое. Все оскотинились! Кака така власть, если она народ разоряет? Кому это надо-то?! Бандюки верховодят, не иначе, креста на них нет! Чё делать-то, Ольга, будем? Неужто не выдюжим?
− Сдурел ты, чё-ли совсем, Евдоким? Чё делать, чё делать… Работать будем, землю зубами грызть будем, а не сдадимся. Нельзя нам по другому – детки у нас! Неужто Господь не поможет, не подскажет, оставит без соломинки, чтоб удержаться? Чай не война ишшо… Хорошо хоть лошаденка жива, рудовозом на ней поработаешь… Зиму бы перенести! Я тоже подработаю, дотерпим, ведь спаслись всеж-таки, до лета выдюжим как-нибудь. Лошадку бы сохранить, а там – тайга-матушка прокормит. Я по дворам пойду, по начальникам да торгашам мыть, стирать, убирать, белить – за хлеб, соль, картоху… На еду заработаю. Побираться не будем! Не пропадем! Держись, мужик, нос не вешай! Вдвоем горы своротим!
Вот так – вроде все ей нипочем, все трын-трава, все хорошо – вела себя Ольга Павловна уверенно, спокойно, наперекор судьбе. И никто не знал, как она тоненько выла-стонала, давясь рыданиями, выходя ночью во двор. Выплескивала в бабьем своем плаче отчаяние и страх, силясь найти выход и поддержать всех. Думала, думала, молила, просила Господа подсказать ей – что делать, как справиться с трудностями, как казалось, невыносимыми. И возвращалась в дом с твердой уверенностью, что выход найдется. Выдюжим!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.