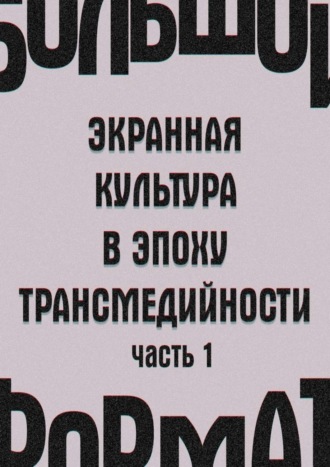
Полная версия
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
Сегодня совершенно очевидно, что наряду с традиционной формой коллективной монографии, требующей максимальной унификации и жесткости в структуре всех разделов и стилистике письма, может сложиться другая, альтернативная форма коллективной монографии.
Вместо унификации мы утверждаем ценность и необходимость принципа творческого авторского многоголосия, в котором каждый автор сохраняет свою индивидуальность видения предмета и стиля изложения, дополняя другие авторские высказывания.
Подобные принципы развиваются, на наш взгляд, в коллективных монографиях под редакцией И. Е. Светлова «Символизм. Новые ракурсы» и «Густав Климт и Эгон Шиле в Москве и Вене», коллективной монографии «Триалог. Искусство в пространстве эстетического опыта» В. В. Бычкова, Н. Б. Маньковской и В. В. Иванова, в коллективных трудах «Аура художественного творчества» и «Антропология искусства…» под редакцией О. А. Кривцуна [46].
Современное искусство (как и медиасреда) – это очень сложный и непредсказуемый организм со множеством составляющих. И он требует готовности видеть его сразу с многих сторон, многих научных и мировоззренческих позиций, а не пытаться утвердить какой-то один ракурс и концептуальный вектор. Разные взгляды и научные позиции не опровергают, но дополняют друг друга и отражают реальную глубину многосложности сферы искусства.
Вместо структурной жесткости и жанрового единства мы стремимся к структурной гибкости и многожанровому единству исследования. Историко-теоретические и обзорные главы находятся в свободном сосуществовании с главами, выполненными в манере научного эссе, критической статьи, персонального исторического свидетельства.
Как бы мы ни были погружены в исследование эстетических особенностей экранных произведений, как бы мы ни дорожили научными традициями изучения художественной формы, невозможно представить себя изолированными от дискуссионного поля современной экранной культуры, от анализа актуальных смыслов, которые транслируют различные виды экранных больших форматов, наконец, от проблем восприятия экранных форм в современном обществе. Востребованность данных подходов абсолютно очевидна, о ней говорит востребованность книг литературоведа и культуролога Л. И. Сараскиной [47], киноведа, теле- и кинокритика Ю. А. Богомолова, опубликовавшего за последние годы монографические труды в жанре аналитической критики: «Прогулки с мышкой…» [48], «Хроника пикирующего телевидения» [49], «Медиазвезды во взаимных отражениях» [50], недавно вышедшей монографии А. А. Новиковой «Воображаемое сообщество. Очерки истории экранного образа российской интеллигенции» [51] и др.
Стремление к ряду обобщений и анализу эстетического феномена, на наш взгляд, не противоречит новому утверждению ценности отдельных неповторимых экранных произведений и художественных решений. И потому наряду с главами, в которых на разнообразном материале рассматриваются эстетические понятия и общие художественные тенденции в экранных искусствах, в нашей монографии есть главы, посвященные отдельным произведениям и даже фрагментам произведений. Данный принцип столь же оправдан, сколь было естественным и необходимым появление крупных и сверхкрупных планов в кино.
Мы ценим индивидуальное мнение каждого ученого и считаем, что возможна опора не только на разветвленное гуманитарное знание, но и на собственную интуицию. Это отнюдь не означает произвольности и так называемой «необоснованности» суждения. Интуитивный метод состоит совершенно не в том, чтобы думать и высказывать то, что произвольно взбредает в голову. Сознание профессионала, длительное время изучающего искусство, наблюдающего его развитие, его взлеты и неудачи, обрабатывает получаемую эстетическую информацию гораздо быстрее, чем он успевает проанализировать логику возникновения своего суждения о том или ином явлении культуры и искусства. Суждение профессионала может быть основано на быстром «внутреннем» анализе явления, для которого ученому не надо выстраивать рациональные схемы, долго подыскивать методы и пр. Экспертное мнение потому и обладает ценностью, что несет в себе в «свернутом» виде состоявшийся многогранный анализ предмета и умение определить его место в сложном контексте культуры и искусства. Такой анализ требует доверия себе и своему восприятию, умения анализировать свое спонтанно формирующееся отношение к произведениям искусства. Для живого восприятия искусства, для постижения современных, новых, еще никем не описанных и не проанализированных произведений, необходима наука индивидуального суждения, основанного на многообразном опыте изучения предмета.
Существенным событием стал коллективный труд Государственного института искусствознания «Память как объект и инструмент искусствознания» [52]. В не меньшей степени память – это инструмент изучения массмедиа, медийной среды и истории восприятия закрытых и открытых художественных форм. Наука спонтанно движется к пониманию того, что отображение и осмысление личного опыта восприятия культуры, искусства, а также личный опыт научной деятельности – весьма полезное звено общей парадигмы научного мышления. В нашем научном микрокосме совершенно стихийно тоже возник текст, свидетельствующий в пользу данного тезиса. В процессе работы над коллективным трудом «Телевидение между искусством и массмедиа» А. С. Вартанов написал раздел об истории исследования телевидения в секторе Государственного института искусствознания в советские годы, когда подразделение именовалось сектором художественных проблем СМК, а институт – Всесоюзным научно-исследовательским институтом искусствознания [53].
Возможно, пора отодвинуть в тень определение «мемуары», «воспоминания», «страницы жизни» и осознать, что в случае способности структурировать багаж своей памяти, выбирать из него то, что относится к теме конкретного исследования, и производить анализ фактов, следует говорить о наблюдениях, свидетельствах, суждениях очевидцев и участников культурного процесса. Элементы жанра личного наблюдения ученого и журналиста также присутствуют в нашей монографии, одновременно являя и фактологический материал для других исследователей, и способ реконструкции страниц культурного прошлого и осмысления его явлений.
Данный коллективный труд не ставит своей целью написание полной истории жизни больших экранных форм. Мы вступили в эпоху, со всей очевидностью демонстрирующую, что эта задача попросту невыполнима. Экранной продукции становится так много, что формы научной работы с ней должны трансформироваться. На сегодняшний день более плодотворно стремление обозначить актуальные для современности аспекты исследования данного предмета, рассмотреть отдельные ключевые тенденции и произведения, не претендуя на всеобъемлющий охват материала.
Примечания
[1] Эта тематика здесь не рассматривается, она связана со специфическими технологиями и смысловым полем и требует отдельной монографии.
[2] Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М.: Наука. 1987. С. 222. Божович В. И.
[3] Многосерийный телефильм: истоки, практика, перспективы. Cб. ст. Сост. Г. Михайлова. Отв. ред. А. Липков. М.: Искусство, 1976.
[4] Непрерывно развивающееся целостное повествование в экранных искусствах ассоциируется с романными формами. Однако оно может быть выполнено и в жанре эпоса.
[5] Вселенная, мир – в данном случае это синонимы, варианты принятых обозначений целостного художественного мира, который может воплощаться в различных искусствах, например, в литературе, комиксах, кино, телевидении, живописи и пр. Эти обозначения сегодня широко растиражированы в отношении фэнтези и других популярных жанров, однако правомерно их использование при обращении к высокому искусству. Мир Льва Толстого, мир Шекспира, вселенная «Руслана и Людмилы» и пр.
[6] Киновариант «Фанни и Александра» длится 188 минут, телевизионный – 312 минут.
[7] В данном случае мы имеем в виду «тело» произведения, а не его восприятие, его видение, которое зависит от исторического и культурного контекста, от индивидуальности реципиента и пр.
[8]Convergence Culture Where Old and New Media Collide. New York New York University Press. 2006. Jenkins H.
[9]An Introduction to Television Studies. London, New York: Routledge. 2013. P. 189. Bignell J.
[10] Transmedia Practice Theorizing the Practice Of Expressing a Fictional World Across Distinct Media and Environments. PhD diss., University of Sydney. 2009. Dena Ch.
[11] Transmedia Archaeology: Storytelling In the Bordelines Of Science Fiction, Comics and Pulp Magazines. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 2014. Sedari C., Bertetti P., Freeman M.
[12] The Return Of King Arthur British and American Arthurian Literature Since 1800. Boydell & Brewer Ltd. 1983. Taylor B., Brewer E.
[13] In Search Of the Holy Grail the Quest For the Middle Ages. London, New York Humbledon Continuum. 2006. Ortenberg V.
[14] Подробнее о развитии античных мотивов в Новое и Новейшее время см.: Античность в европейской живописи XV – начала ХХ века М.: Советский художник. 1984; The Ancient World of Silent Cinema. Eds. Cambridge: Cambridge University Press. 2013; E. Antiquity Now: The Classical World in the Contemporary American Imagination. Cambridge: Cambridge University Press. 2015. Michelakis P. and Wyke M. Jenkins Th.
[15] Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум. 1996. Беньямин В.
[16] Показателен и происходящий отказ от такой музейности, многократная трансформация понимания музея во второй половине ХХ – начале XXI века, а также активный выход искусства на улицу (street art). Однако это отдельная большая тема.
[17] Movie Monsters in Scale: A Modeler’s Gallery of Science Fiction and Horror Figures and Dioramas. Jefferson, London, North Carolina: McFarland & Company, Inc. Publishers. 2013. Glassy M. C.
[18] Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. М.: Прогресс-Традиция. 2017. С. 532—543. Сальникова Е. В.
[19] Система вещей. М.: Рудомино. 1995. С. 49. Бодрийяр Ж.
[20] Там же.
[21] Полевые материалы автора (ПМА). Культурные предпочтения студентов московских гуманитарных вузов. Май, 2018.
[22] ПМА. Практика обращения жителей городов России с видеомагнитофонами и кассетами. Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Январь, 1994; Television in Portuguese Daily Life. Newcastle Cambridge Scholars Press. 2006. P. 28. Torres E. C.
[23] По свидетельству музыковедов, мода на коллекционирование «винила» уже давно вернулась, кроме того, сегодня снова производятся виниловые пластинки.
[24] В онлайн-кинотеатре Ivi размещена подборка камео в «Друзьях». URL: https://www.ivi.ru/titr/motor/kameo-v-druzyah
(Дата обращения 24.07.2018).
[25] Цифролюция. Что случилось с музыкой в XXI веке? М.: Классика-ХХI. 2017. Стракович Ю. В.
[26] Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга. 2009. С. 9. Маньковская Н. Б.
[27] Разлогов К. Э. Экранный гипертекст // Экранная культура в современном медиапространстве. Методология, технологии, практики. М.-Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий». 2006. С. 8.
[28] Там же. С. 14.
[29] Фрактальная структура подразумевает самоподобие, игру масштабов и бесконечное разрастание. Подробнее см.: Фракталы городской культуры. СПб.: Страта. 2014. Николаева Е. В.
[30] The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology. Eds. Crossmwdia Innovations: Texts, Markets, Institutions. Eds. Frankfurt: Peter Lang. 2012; Transmedia Television: New Trends In Network Serial Production. London: Bloomsbury. 2012; Transmedia Frictions: The Digital, the Arts, and the Humanities. Eds. 2014. Hassler-Forest D., Nicklas P. Ibrus I., Scolari C. A. Clarke M. G. Kinder M., McPherson T.
[31] Media Convergence: The Three Degrees of Network, Mass, and Interpersonal Communication. London: Routledge. 2010; Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York, London: MIT. 2006. Jensen H. Jenkins H.
[32], ed. Encyclopedia of Media and Communication. Toronto University of Toronto Press. 2013. P. ix. Danesi M.
[33]Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель. 1963; Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М.: Просвещение. 1968; A. Empire and Communications. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2007; Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле. 2007. Бахтин М. М. Innis H. Маклюэн М.
[34] Всеобщая история кино. В 7-ми томах. Т. 1. М.: Искусство. 1958; A History of Pre-Cinema. London. Routledge. 2000. Elements of Screenology Toward an Archaeology of the Screen. // ICINICS International Studies of the Modern Image. V. 7. Tokyo. The Japan Society of Image Arts and Sciences. 2004. P. 31—82. Садуль Ж. Herbert S. Huhtamo E.
[35] Anthropology of Media // Encyclopedia of Media and Communication. Ed. Toronto: University of Toronto Press. 2013. P. 30—33. Danesi M.
[36]Телевидение для нас: три эпохи. Картина мира и организация экранной реальности // Телевидение между искусством и массмедиа. Ред.-сост. Вартанов А. С. М.: Государственный институт искусствознания. 2015. С. 402—451. Сальникова Е. В.
[37] Этнографическое обозрение. №4. Отв.-ред. М. 2015, №4. Новикова А. А.
[38] Домашний телевизор. Экранная культура в пространстве повседневности. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета. 2009. Сергеева О. В.
[39] Style In British Television Drama. Basingstoke: Palgrave McMillan. 2013. P. 1—2. Cooke L.
[40] New Television: The Aesthetics and Politics of a Genre. Chicago, London: The University Of Chicago Press. 2017; The Contemporary Television Series. Edinburg: Edinburg University Press. 2005. Shuster M. Hammond M., Mazdon L.
[41] Время в кино. М.: Прогресс-Традиция. 2015. Мариевская Н. Е.
[42] Поэтика телесериала. М.: Русника. 2013. Казючиц М. Ф.
[43] От «Истории государства Российского» к телеканалу «История»: культурное предание в публичном пространстве // Наука телевидения и экранных искусств. Выпуск 13. М.: ГИТР. 2017. С. 97—109. Жукова О. А.
[44] Лабиринты «нового средневековья»: интеграция фольклорно-мифологической компоненты и актуальность сказочной атрибутики в современных телесериалах США // Наука телевидения и экранных искусств. Выпуск 13. М.: ГИТР. 2017. С. 290—300. Спутницкая Н. Ю.
[45] Салынский Д. А. Киногерменевтика Тарковского. М.: Продюсерский центр «Квадрига». 2009; Хренов Н. А. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс-Традиция. 2008; Михеева Ю. В. Ночь Никодима. Человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе. М.: ВГИК. 2014; Беспалов О. В. Символическое и дословное в искусстве ХХ века. М.: Памятники исторической мысли. 2010; На рубеже веков. Современное европейское кино. Творчество, производство, прокат. М.: ВГИК. 2015; Кино в меняющемся мире. В двух частях. М.: Издательские решения. Ридеро. 2016.
[46] Бычков В. В., Маньковская Н. Б., Иванов В. В. Триалог. Искусство в пространстве эстетического опыта. М.: Прогресс-Традиция. 2017; Символизм. Новые ракурсы. Сост. и отв. ред. Светлов И. Е. М.: Канон-Плюс. 2017; Густав Климт и Эгон Шиле в Москве и Вене. Сост. Светлов И. Е. М.: Издательский центр «Азбуковник». 2018; Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология. Отв. ред. Кривцун О. А. М.: Индрик. 2011; Антропология искусства. Язык искусства и мера человеческого в меняющемся мире. Отв. Ред. Кривцун О. А., М.: Индрик. 2017.
[47] Испытание будущим. Ф. М. Достоевский как участник современной культуры. М.: Прогресс-Традиция. 2010; Сараскина Л. И. Литературная классика в соблазне экранизаций. М.: Прогресс-Традиция. 2018. Сараскина Л. И.
[48] Прогулки с мышкой. Заметки гуманитария на полях общественно-художественной жизни». М.: МИК. 2014. Богомолов Ю. А.
[49] Хроника пикирующего телевидения. М.: МИК. 2004. Богомолов Ю. А.
[50] Медиазвезды во взаимных отражениях. М.: Аграф. 2017. Богомолов Ю. А.
[51] Воображаемое сообщество. Очерки истории экранного образа российской интеллигенции. М.: Согласие. 2018. Новикова А. А.
[52] Память как объект и инструмент искусствознания. / Сост. М.: Государственный институт искусствознания. 2016 Бобринская Е. А., Корндорф А. С.
[53] Новоселье на Парнасе. // Телевидение между искусство и массмедиа. Ред.-сост. Вартанов А. С. М.: Государственный институт искусствознания. 2015. С. 87—143. Вартанов А. С.
Игорь Кондаков
К поэтике большой экранной формы
В предлагаемом вниманию читателя и зрителя очерке предпринята попытка осмыслить поэтику большой экранной формы в общетеоретическом виде, не обращаясь к конкретным примерам собственно большой экранной формы. Читатель и зритель волен вообразить эти примеры, встающие за теоретическими построениями.
Большая и малая форма: единство и борьба противоположностей
Прежде чем размышлять о природе большой экранной формы, попробуем определить в общем виде, что такое большая форма в художественной культуре и чем она отличается от аналогичной малой формы. На эту – не столько филологическую, сколько культурологическую проблему – обратил в свое время внимание Юрий Тынянов в книге «Архаисты и новаторы» (Л.: Прибой, 1929). Речь у него в статье «Литературный факт» идет об исторической изменчивости самого соотношения между большой и малой формами, о наделении этих форм в различном историческом контексте разными функциями. Для различения большой и малой форм Ю. Тынянов вводит понятие . Но это понятие носит у Тынянова значение скорее качественное, нежели количественное. «Величина формы» – это, скорее, метафора. величины
«Понятие „величины“ есть вначале понятие энергетическое: мы склонны называть „большою формою“ ту, на конструирование которой затрачиваем больше энергии. „Большая форма“, поэма может быть дана на малом количестве стихов (ср. „Кавказский пленник“ Пушкина). Пространственно „большая форма“ бывает результатом энергетической. Но и она в некоторые исторические периоды определяет законы конструкции. Роман отличен от новеллы тем, что он – . „Поэма“ от просто „“ – тем же. Расчет на большую форму не тот, что на малую, каждая деталь, каждый стилистический прием в зависимости от величины конструкции имеет разную функцию, обладает разной силой, на него ложится разная нагрузка» [54]. большая форма стихотворения
Мы видим, что главный акцент в понимании большой и малой форм падает у Тынянова на . Чем сложнее и значительнее по своим задачам конструкция (жанра, стиля, художественной системы, эстетики и т.п.), тем в большей мере она отвечает критериям «большой формы». При этом соотношение и взаимодействие большой и малой форм постоянно меняется. Ю. Тынянов замечает, что «Пушкин наследовал большой форме XVIII века, » [55]. «…Вся а оно-то и выпадает из поля зрения при „статическом“ рассмотрении» [56]. Таким образом, «величина» формы зависит от конструктивного значения используемых приемов, от их смыслового наполнения, от исторической динамики их рассмотрения. величину конструкции сделав большой формой мелочь карамзинистов суть новой конструкции может быть в новом использовании старых приемов, в их новом конструктивном значении,
Если отталкиваться от истоков формообразования в древнейших культурах, то приходится признать, что, например, эпос и лирика соотносятся между собой именно как большая и малая форма. Однако важнейшие различия эпоса и лирики связаны не только: 1) с количественным объемом текста и 2) временной протяженностью его изложения и восприятия, но и 3) степенью объектности и субъектности двух типов текста.
Эпос объективен или, точнее, претендует на объективность освещения огромной массы событий с некоторой отвлеченной или обобщенной точки зрения. Может считаться, что это точка зрения народа, богов, абсолютная историческая истина, точка зрения большинства и т. п. Лирика субъективна; она связана с индивидуальным и нередко единичным мировосприятием; она представляет собой взгляд очевидца на одно или несколько частных событий, касающихся лично его. Эпос объединяет множество участников событий и в этом смысле он «многосубъектен», хотя все включенные в него субъекты являются скорее множественными объектами описания и изображения и вовсе не ощущают себя субъектами переживания и самовыражения. Лирика исторически довольно быстро преодолевает «полисубъектность», точнее «коллективную субъектность» («хоровая лирика») и становится принципиально «моносубъектной», выражая настроения и мысли «лирического героя», близкого автору, повествователю и рассказчику в одном лице; при этом лирика ни в какой степени не может представлять «объективность» как таковую, поскольку сознательно абстрагируется от объектности миропорядка, предлагая лишь один из возможных «взглядов» на окружающую действительность.
Можно задуматься над тем, почему эпос, эпическое сознание, эпические произведения различных видов искусства, во все культурно-исторические эпохи тяготеют к большой форме. Сошлюсь на Г. Гачева. «… В эпосе пафос беспредельности, текучести бытия, в силу которого оно больше всякого отдельного дела, цели, события (и потому их можно бросить и отдаться другому), – есть одновременно утверждение завершенности бытия, его равновесия с самим собой, внутри себя. Каждый относительно самостоятельный элемент эпического повествования являет собой замкнутый универсум». В эпосе «соединены все сферы бытия, все категории <…> Всё стремится друг к другу». «Единое народное тело, тело человечества все равно сообщается внутри себя сквозь все необычайно сложные надстройки и опосредствования (вещи, оружие, законы), создаваемые историей, и сквозь них все равно испытываются коренные, простые, человеческие ценности: любовь, верность, ненависть, храбрость» [57].
Характеризуя «чисто эпическое миропонимание», несомненно показательное для любой большой формы, – будь то литературная или экранная, – через толстовский глагол «» [58], Г. Гачев, рассуждая о содержательности «предельных» художественных форм (каковыми в литературоведении и эстетике признаются роды художественной деятельности), так определял специфику эпоса. «Взявшись за краеугольные философские категории „всё“ и „единое“, оно [эпическое миропонимание. – ] разрушает эту четкую пару противоположностей, а оба их переносит в иное измерение, где они уж не тяготеют маниакально только друг к другу, а оказываются доступны к совмещению с иными основоположениями» [59]. сопрягать И.К.
В то же время возникающее лирическое миропонимание несет в себе пафос – «в ликвидации принципа „сопрягать“ и в установлении безраздельного владычества принципа „соединять“. Поскольку индивид, я, становится центром, то все связанное с его бытием становится священным и всеобщим. И так же, как раньше эпический рассказчик мог отдаваться описанию любого явления жизни (не считаясь с тем, что от этого задерживается повествование), ибо и оно служит бытию к украшению и демонстрирует его изобилие, – так и теперь все, что связано с жизнью, интересами, чувствованиями индивида, обретает всеобщий и священный символ» [60]. Мы видим, что и «малые формы» повествования о жизни потенциально имеют ресурс превращения в «большую форму» (когда бесчисленные детали личного мироощущения индивида, нанизываясь на «нить» его самосознания и самовыражения, образуют множество лирических исповеданий некоего «Я»). Однако приоритет в создании «большой формы» остается, прежде всего, за эпическим мировоззрением.
«Эпосу нет нужды опираться на что-либо, ибо он, как всё, совпадает с цельностью жизни. Потому он ленив и благодушен: ему не нужно делать усилий, чтобы существовать, – напротив, для этого ему нужно расслабиться и быть как все впитывающая губка: не подавать признаков активности, чтобы бытие, естественно и не замечая чего-то чужого, проходило сквозь его улавливающую сеть. Потому и личность автора должна стушеваться и превратиться в лишь орган, проходящее звено, передаточный пункт, а не источник движения.
В лирическом стихотворении – иное. У него есть начало, хотя нет конца его жизни. Автор здесь – абсолютный источник. <…> Автор отдирает от себя куски своей жизни и пускает их гулять, как живых существ, в пространство. Но для этого он сам должен жить напряженнейшим образом, быть личностью, иметь свою судьбу, биографию. Сама жизнь его должна быть целостным произведением, быть поэмой» [61].

