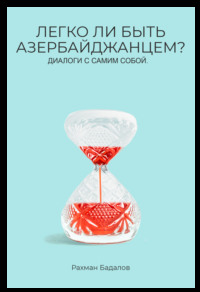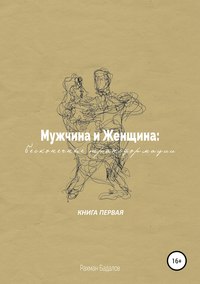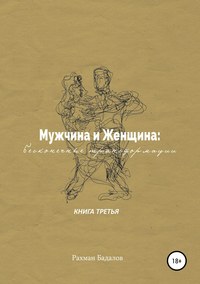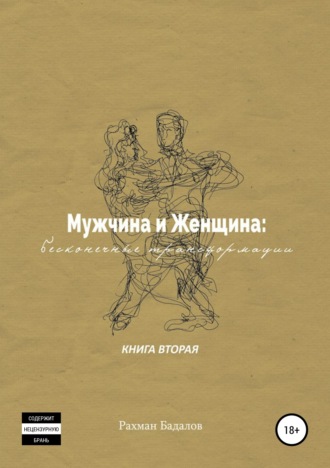 полная версия
полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга вторая
Не случайно ведь Создатель, придумал тяжесть, всемирное тяготение, чтобы не порхали в воздухе, как былинка на ветру. Чтобы, по крайней мере, понимали значение «тяжести», когда пройдёт детство и юность.
Не буду спорить, и всемирное тяготение, та же «тяжесть», без них невозможно. Вопрос в другом, достаточно ли этой «тяжести», можно ли прожить без «невыносимой лёгкости бытия»? Не чувствуем ли мы свою обделённость, свою ущербность, поскольку зачастую не хватает «лёгкости» и преобладает грубая «тяжесть»?
…много ли у нас уязвимых мужчин?Так случилось, думал о «послесловии для азербайджанского читателя», об уязвимости наших мужчин, в которой они не признаются, хотелось с кем-то поделиться своими наблюдениями, и оказался с мужчиной в автомобиле.
Мужчина, коллега, друг, продвинутый и в мыслях, и в чувствах, надеюсь рано или поздно прочтёт и эти строки, и книгу в целом.
Случайность, не знаю, возможно, но эти случайности меня постоянно настигают, невольно поверишь, что повсюду действует чья-то невидимая рука.
Рассказал, предельно кратко, о своём послесловии, и, главное, об уязвимости мужчины. Может быть, показалось, принял желаемое за действительное, но мужчина вздрогнул, наверно подумал о своей «уязвимости», хотя ничего не сказал.
Вот тогда, оставшись один, я вновь подумал об этой «уязвимости», о том, что она существует во многих наших мужчинах, по крайней мере, в тех, которые ещё окончательно не умерли, хотя продолжают есть, пить, двигаться, дышать. Это не недостаток, не слабость, почти норма эпохи после Больших войн, после которых, спрос на Сильного Мужчину, способного решать за женщину, закончился. Но наши мужчины об этом не подозревают или притворяются, что не знают.
И ещё я подумал, Боже, прости наших женщин, прошлые времена стучат им в висок, а они по-прежнему ищут надёжного, «тяжёлого», с которым как за каменной стеной, не понимая, что за этой «каменной стеной»,
…мне ещё придётся писать об азербайджанской повести «Камень»[220] и о нашей зловещей «каменной стене»…
они выхолостятся, затоскуют, впадут в депрессию. Они, пока не понимают, что лучше «уязвимые», с ними труднее, порой придётся им помогать, поддерживать, но может быть, только с ними они почувствуют себя женщинами, которыми не только восторгаются, но в которых нуждаются.
Перебирая в памяти, различные семьи, различных знакомых мне мужчин, я всё больше убеждался, что и Трюффо, и «Жюль и Джим», про нас, просто мы пока не решились в этом признаться. Поэтому и придумали миф об «азербайджанской женщине», якобы не такой как все женщины в других культурах, придумали миф, за которым мужчинам можно было спрятать свою уязвлённость.
Но ведь от времени не спрячешься, мир открыт для всех, один Интернет чего стоит, пытаешься спрятаться за миф о нашей особенности, а в наших семьях, не мифических, реальных, с мужчиной и женщиной во плоти, всё больше раздоров, всё больше непонимания. И от разрушительного вируса невозможно избавиться.
…возможен ли у нас Франсуа Трюффо?Теперь я задам более конкретный вопрос.
А возможен ли на азербайджанской почве, такой «Франсуа Трюффо», который жизни предпочитает искусство, который после семи часов вечера предпочитает не встречаться с мужчинами, который может нормально жить только в свете «американской ночи»?
Конечно, да, совершенно убеждён, что да. Ведь мы такие же люди, такие же человеки, такие же мужчины и женщины, как все люди на свете. Ничем не отличаемся.
А теперь задам другой вопрос. А можно ли допустить, что такой «Франсуа Трюффо» на азербайджанской почве сумеет снять свои фильмы? Здесь я отвечу решительное «нет», не снимет, не сумеет снять, бастионы «тяжести» в нашей жизни не позволят ему через них прорваться. Ничего не получится.
Самое простое, техническое, – Трюффо говорил, что для съёмок полнометражного игрового фильма ему требуется от 30 до 40 тысяч метров плёнки.
…спросите у наших режиссёров, сколько им дают плёнки для съёмки аналогичного по метражу игрового фильма…
Как у нас это возможно?!
Вот и получается странная картина. Мы начали с другого конца, технического, технологического, получили «нет», «у нас это невозможно», и какое имеет значение, что раскручивая эту мысленную линию до конца, мы натолкнулись на то, что и у нас возможен такой человек, как Франсуа Трюффо.
А это уже диагноз, который рано или поздно должен публично прозвучать. Или мы никогда не выберемся из ямы, в которую попали.
Ноябрь 2015 годОпус третий. Её звали Сабина Шпильрейн: «я тоже однажды была человеком…»
Два колосса[221] и маленькая женщина между ними…Снова двое мужчин и одна женщина.
Любовный треугольник?
Вряд ли «любовный», хотя Эрос[222] на практике, в теории, в сознании, в подсознании пронизывает их отношения. И треугольник – не «треугольник», странная пластическая фигура, два колосса, которые грозят раздавить оказавшуюся между ними маленькую женщину.
Два колосса: Зигмунд Фрейд-[223] и Карл-Густав Юнг[224]. Женщина – Сабина Шпильрейн[225].
Имена, которые могут вызвать оторопь. Двое мужчин, без преувеличения можно сказать, изменившие представления о природе человека. И обычная, необычная женщина, которую они, увлечённые своим величием, так и не смогли понять.
Моя информация об этом треугольнике – не «треугольнике»:
книга Александра Эткинда «Эрос невозможного. История психоанализа в России»[226], глава из книги «Чистая игра с русской девушкой: Сабина Шпильрейн»,
книга Альдо Каротенуто «Тайная симметрия: Сабина Шпильрейн между Юнгом и Фрейдом» с подзаголовком «Нерассказанная история женщины, изменившей раннюю историю психоанализа»[227],
другие источники, которые обнаружил в Интернете (а есть ещё роман и пьеса).
И фильмы:
«Сабина»(2002, режиссёр Роберто Фаэнца[228]),
«Меня звали Сабина Шпильрейн» (2002, документальный, режиссёр Элизабет Мартон[229]),
«Опасный метод» (2011, режиссёр Давид Кроненберг[230]).
А дальше, отталкиваясь от книг и фильмов, вчитываясь в письма всех троих друг другу, плюс то, что успел понять, почувствовать, плюс мои фантазии и мои домыслы, мои убеждения и мои предубеждения.
Отдаю себе отчёт, что смешно и наивно, писать о Фрейде, когда написаны тома и тома, но всё-таки решусь. Не потому что способен сказать нечто оригинальное, что до сих пор никто не говорил. Просто существует мой контекст, мой взгляд, и Зигмунд Фрейд, и за, и против, его составная часть.
Зигмунд Фрейд: мой контекст…Фрейд – один из гениев человечества. Он освободил нас от ложных догматов, которые так долго нас обманывали.
…«я только открыл дверь» – говорит Фрейд в фильме «Последний метод».
Он открыто заговорил о том, о чём до него говорить было не принято или просто запрещено. В конце концов, Фрейд попросту позволил нам не стесняться самих себя.
Вспомним, в «Анне Карениной» мундир, сюртук, бальное платье, должны были восприниматься не как внешняя одежда, а как сама суть человека. Неприлично было спрашивать, что скрывается под одеждой. Этикет и человек были равны друг другу. Анна была осуждена окружающими не столько за страсть, сколько за то, что нарушила приличия, нарушила этикет.
В «Жюль и Джим» одежда, как мужчин, так и женщин, стала более свободной. Мода стала диктовать, что красиво, а что не красиво, но в целом, стиль стал более демократическим. Пришло (стало приходить) ощущение, что за одеждой живое тело, игнорировать которое невозможно. Нас больше не шокировало раздевание героев на наших глазах. Конечно, до спартанских женщин[231] дело не дошло, но дистанция между телом в одежде и обнажённым телом значительно уменьшилась.
Фрейд принципиально начинает там, где останавливаются и спартанские женщины, и демократическая одежда нового времени. Обнажённое тело человека оказалось на рандеву с самым безжалостным за всю историю человечества судьёй. И он, этот безжалостный судья, обнаружил то, что до него никто не замечал или не хотел замечать.
Во-первых, он не отвёл глаз от известных органов, над которыми культура человека надстроила огромное здание всевозможных табу. Он стал всматриваться в обнажённое человеческое тело не как эстет и художник, а как врач и психиатр, пытающийся разобраться в человеческих фобиях.
Во-вторых, он обнаруживает неуловимое, нематериальное «Оно», которое прячется в закоулках нашего сознания и постоянно отягощает нашу жизнь. Оказалось, что там в этом невидимом, не материальном «Оно», причина многих наших неврозов, неявных побуждений, скрытых страхов. Оказалось, что речь идёт о нашей потаённой жизни, скрытой не только от других, но и от нас самих. В этом великая заслуга Фрейда.
С гуманизмом, расширяющим границы «человеческого в человеке», более или менее понятно, но Фрейд, прежде всего, был врачом и психиатром, он должен был лечить, а не «всматриваться». Но с лечением всё оказалось намного сложнее: принцип подхода казался универсальным – заставить выговориться о том, чему препятствовали Я и сверхЯ человека, и что становилось причиной неврозов. Но как этого добиться на практике, как от универсального метода перейти к конкретному мужчине и конкретной женщине, старому и молодому, тому, кто больше здоров, чем нездоров и тому, кто больше нездоров, чем здоров. Это оказалось не просто.
Пациенты готовы были говорить часами, они не хотели уходить, Фрейду не хватало терпения,
…не столько «психоанализ»[232], сколько «психов анализ», признаётся Фрейд в фильме «Последний метод»…
он их попросту выгонял, объясняя это лечебной целесообразностью. В практические рекомендации пришлось включать равнодушие к пациенту, не сочувствие, поскольку испытывать сочувствие, утомительно и неразумно для психического здоровья врача (?!). Некоторые из пациентов перестали быть «пациентами», просто собеседниками, с ними он готов был беседовать часами, встречался день за днём, гулял, общался. Думал ли он в эти часы о своём методе, о вытеснении и переносе, был ли он в этих беседах врачом и психиатром, или просто собеседником. Трудно сказать, но, несомненно, эти беседы, в основном, были о том же, о подсознании человека, о невидимом «Оно», которое влияет на поступки и на решения человека.
Лечебные сеансы продолжались, но основная работа постепенно перешла к встречам по средам, на которые собирались не только врачи, но и писатели, музыканты, поэты,
…встречи эти получили название Психологического общества среды, которое позднее трансформировались в Венское психоаналитическое общества[233].
Во всех случаях и в лечебных сеансах, и в собраниях Психологического (психоаналитического) общества, был Учитель, почти сакральный Отец, и Ученики, послушные Сыновья, между которыми сохранялась дистанция почитания. Те, кто нарушал эту дистанцию, нередко становились врагами. У Фрейда был один диагноз на всех ослушавшихся: скрытый невроз, в котором боятся признаться сами себе пациенты-ученики.
Так произошло и с Карлом-Густавом Юнгом, который в какой-то момент позволил себе не согласиться с Учителем.
После такого небольшого вступления вернёмся к нашему «треугольнику» и, конкретно, к Сабине Шпильрейн.
Шпильрейн – «чистая игра»…Сабина (по рождению Шейвэ) Шпильрейн родилась в 1885 году в семье богатого еврейского торговца Ростова-на-Дону. Если поверить психоанализу, который находил смысл в каждой детали, то фамилия «Шпильрейн» не случайная, по-немецки она означает «чистая игра». Буду считать, что речь идёт о «чистой игре» со стороны Сабины Шпильрейн, со стороны женщины, поскольку мне неизвестно, что означает «фрейд» и «юнг», можно ли обнаружить в этих фамилиях предустановленность поведения этих мужчин.
В смене столетий всегда обнаруживают много символического, свой символизм можно обнаружить и в переходе от девятнадцатого века к двадцатому. Оптимистический век идёт на убыль, предчувствие кровавых событий нового века витает в воздухе. В моде декадентство, чёрные круги под глазами, самоубийство, реальное или мнимое, воспринимается как эффектный жест.
Шпильрейны – не простая семья. Отец Сабины, Николай Шпильрейн, человек странный. Вегетарианец, аскет. Хотя у семьи трёхэтажный дом, достаток, он требует от жены аскетизма.
…«зачем ты купила себе такое дорогое платье?»…
Наказывает братьев, заставляя часами бить друг друга.
Наказывает Сабину, задирает юбку, бьёт по голому заду. Во время обеда, при виде рук отца, Сабина с трудом сдерживает тошноту.
Николай Шпильрейн стремился дать своим детям основательное европейское образование. Они должны были владеть немецким, французским, английским языками, причём отец ввёл правило, в зависимости от дня недели в семье должны были говорить на том или ином языке. Дети боялись сурового и неуравновешенного отца, который мог позволить себе самые жестокие наказания, но при этом отчаянно бунтовали против его запретов.
Сабина уже в детском возрасте проявляла незаурядные лингвистические и литературные способности, но при этом была девочкой чрезмерной впечатлительной и ранимой, могла позволить себе эксцентрические выходки и причудливые фантазии, которые шокировали окружающих. Её психическое состояние резко ухудшилось после смерти от брюшного тифа любимой шестилетней сестры. Сабина стала страдать от навязчивых идей, кошмарных сновидений. Её настроение стало крайне неустойчивым, она мгновенно переходила от плача к истерическому смеху, болезненно реагировала на присутствие посторонних лиц.
После некоторых колебаний отца, Сабина была направлена в знаменитую клинику Бургхёльцли, близ Цюриха[234], где находилась почти 10 месяцев. Клиникой руководил один из основателей современной психиатрии Евгений Блейлер[235], лечащим врачом Сабины оказался молодой ассистент Карл-Густав Юнг.
Шпильрейн была первой пациенткой Юнга.
О многом из жизни Сабины мы знаем из её дневников, которые она подробно вела всю свою жизнь, начиная с самого раннего детства. Почему Сабина всю жизнь тщательно хранила свои дневники, как и всю свою переписку, почему она решила, что потомки должна знать о самых интимных сторонах её жизни, почему одни люди уничтожают любые свидетельства об их частной жизни, а другие сознательно самораскрываются перед другими, – оставим эти вопросы без ответов.
Такова была Сабина Шпильрейн, вот и весь ответ.
Переписка Фрейда и Юнга…Фрейд и Юнг долгие годы вели интенсивную переписку сохранилось 359 их писем друг другу с подробным описанием клинических успехов и неудач. Прямо или косвенно в их переписке упоминается имя Сабины Шпильрейн, которую они называют «малышка».
До нас дошла также переписка Сабины Шпильрейн с Фрейдом и Юнгом (46 писем Юнга к Шпильрейн, 12 писем Шпильрейн к Юнгу, 20 писем Фрейда к Шпильрейн, 2 письма Шпильрейн к Фрейду). Переписка Шпильрейн с Фрейдом и Юнгом мне недоступна, ограничусь цитатами из книги А. Эткинда.
…Напомню, что Зигмунд Фрейд родился в 1856 году и был старше Сабины Шпильрейн на 29 дет, Карл-Густав Юнг родился в 1875 году и был старше Сабины Шпильрейн на 10 лет, соответственно Зигмунд Фрейд был старше Карла-Густава Юнга на 19 лет…
Письмо Юнга к Фрейду, в котором он описывает лечение Сабины Шпильрейн, было всего вторым, которое Юнг отправил Фрейду. Привожу отрывок из этого письма, не без некоторых колебаний.
В чём их причина?
Конечно, моё представление о том, что можно говорить, а что нельзя, в чём можно признаваться, а в чём нельзя, полно предрассудков, «азиатских», «советских», прочих. Будем считать, что и я потенциальный пациент психоаналитика, и моё «Оно» влияет на мои предрассудки.
Далее, не менее трудный для меня вопрос:
насколько мы вправе не просто заглядывать за покров интимной жизни другого человека, но и, тем более, предавать их публичной огласке?
Но, во-первых, письмо Юнга Фрейду по поводу Сабины напечатано – и перепечатано – не мной,
во-вторых, обращаюсь к нему не ради праздного любопытства, а потому что оно помогает увидеть, как постепенно разматывался клубок взаимоотношений всех троих.
И – не буду скрывать – чтобы постараться убедить читателя, как грубы, черствы, как невежественны, оказались эти два гения во взаимоотношениях с тонко мыслящей и тонко чувствующей женщиной.
…мой это взгляд, мой, моё чувство, моё, и какая разница прав я или не прав, понимаю ли всю глубину теоретических прозрений и врачебного опыта двух признанных гениев или не понимаю…
Итак, отрывок из письма ассистента Юнга к признанному им Учителю, Фрейду.
«Рискуя наскучить, я хотел бы представить Вам своё последнее наблюдение. Я сейчас лечу Вашим методом истеричку. Трудный случай. 20-летняя русская студентка, больна в течение 6 лет.
Первая травма между 3-м и 4-м годами жизни: видела, как отец шлёпает её брата по голому заду. Мощное впечатление. Не могла впоследствии отделаться от мысли, что она испражняется на руку своего отца. В 4–7 лет судорожные попытки дефекации на свою собственную ногу, следующим манером: садилась на пол, поджимая ногу под себя, нажимала пяткой на анус[236] и делала попытку дефекации, в то же время, препятствуя ей. Часто задерживала стул на срок более 2 недель. Не имеет понятия о том, как она набрела на это своеобразное занятие. Говорит, что делала это совершенно инстинктивно, и что это сопровождалось чувством блаженства и дрожью. Позднее это явление сменилось энергичной мастурбацией.
Я буду крайне благодарен, если Вы в нескольких словах сообщите мне Ваше мнение об этом случае».
Речь об этом письме, которое как заноза, застряло во мне, и будет влиять на мои чувства и мои мысли по поводу взаимоотношений внутри нашего «треугольника».
Что было до этого письма, сколько времени прошло до него от времени поступления Сабины в клинику, мне неизвестно, но, факт остаётся фактом, письмо тому свидетельство, Сабина открылась, доверилась Юнгу, заговорила о самом потаённом. Начался процесс выздоровления, не сразу не всегда гладко, со срывами, с провалами в прежнее состояние, но, в конце концов, после десяти месяцев пребывания в клинике Бургхёльцли, Сабина Шпильрейн смогла обрести себя и как человек, и как женщина. И впоследствии стала психиатром и учёным.
Десять месяцев лечения: каков результат?Как оценить эти десять месяцев, несомненно, самые главные в жизни Сабины Шпильрейн?
Могу судить только по книге, по фильмам, по отрывкам из дневников, которые мне доступны, но, как результат, разнобой мыслей и чувств, который не могу преодолеть. Может быть, всё дело в том, что судьба живого человека всегда потенциально содержит в себе различные версии, может быть, дело в самой «неврастенической» Сабине Шпильрейн, может быть, в моих домыслах и предубеждениях. Так или иначе, мне остаётся только поделиться моим «разнобоем», понимая, что мои версии тянут в разные стороны.
– Начну с общих вопросов.
Диагноз Сабины – «психотическая истерия». Не знаю, что он означает, не буду заглядывать в справочники, только замечу, что между диагнозом психиатра, даже если он верен, и живым человеком, всегда остаётся зазор
…большой или маленький, новый вопрос…
Впечатлительная девочка, подросток, до поры до времени оставалась в границах нормы,
…что такое психическая норма, как она меняется от эпохи к эпохе, новые вопросы…
поскольку, как мы знаем, способна была блестяще учиться (закончила школу с золотой медалью). Неожиданно умирает её младшая сестра, и у Сабины происходит нервный (психический?) срыв.
Не будем торопиться признавать нормального человека ненормальным,
…определение этой границы прерогатива врачей, но у культуры свои ответы на вечные вопросы…
ведь это всё тот же человек, просто в его тонкой психической системе произошел сбой.
Пластически представляю пространственную сложную систему с множеством переходов и связей, стоит какой-то связке нарушиться (или разрушиться), как вся система даёт сбой.
Как быть в таком случае?
Вопросы, которые задаю, относятся не к психиатрии, к культуре в целом.
Следует ли, насколько возможно, восстанавливать тонкую психическую организацию пациента, или врач должен добиваться пусть более грубой, зато более надёжной психики, которая не давала бы сбоев. В конце концов, подумаешь событие, смерть младшей сестры. Все люди рано или поздно сталкиваются со смертью, при этом, с нормальными людьми ничего не происходит: поплачут, попечалятся, и будут жить дальше. Поэтому, без лишних сантиментов, психический срыв Сабины следует классифицировать как болезнь. И лечить, чтобы исключить подобные болезни в будущем.
Нужны ли культуре впечатлительные люди?Поменяем оптику и продолжим вопросы. Нужны ли культуре тонко чувствующие, впечатлительные лица, психика которых содержит потенцию кризисов?
Нужна ли мужчине тонко чувствующая, впечатлительная женщина, с которой хлопот не оберёшься?
Не лучше ли, в прямом и в переносном смысле, надеть на них, и на мужчину, и на женщину, «смирительную рубашку» традиций?
Не будем сентиментальничать, признаем, что и смирительная рубашка, и лоботомия, достижения культуры, в некоторых случаях без них не обойтись. Не случайно, разработавший лоботомию Эгаш Мониш, получил Нобелевскую премию[237].
У культуры свой культурный отбор, она вынуждена устанавливать психическую норму, и лечить тех, кто находится вне пределов этой нормы. Другой вопрос, что в какой-то момент культуре приходится задумываться о границах этой нормы. Задуматься над судьбой тех, кто оказался в пограничье, одновременно, и там, и здесь.
Обнадёживает, что «женщины на грани нервного срыва», как в фильмах Педро Альмодовара[238], сегодня не воспринимаются как клинический случай.
Скорее, как норма.
Важный сдвиг – не всегда, не во всех случаях, не во всех культурах, но, тем не менее, – благодаря которому мы начинаем понимать, что таких людей, как Сабина Шпильрейн, не только следует признать нормальными, но и увидеть в них пример для множества безликих «нормальных» людей.
Сдвиг, который позволяет культуре продолжать расширять границы человеческого в человеке.
…Замечу, что в своё время Мишель Фуко[239] исследовал психиатрическую клинику, как попытку «просвещённого человека» чётко определить демаркацию между разумом и безумием, показал, как на этой демаркационной линии возникают институты принудительного разделения людей, как под санкцией Разума, под разряд «безумцев» подпадают те, кто привержен фантазиям и иллюзиям. Вспомним, кроме исследований М. Фуко, есть фильм М. Формана «Пролетая над гнездом кукушки»[240], множество других фильмов.
Судьба Сабины Шпильрейн…– Перейдём к судьбе Сабины Шпильрейн.
Древние греки увидели бы в её судьбе поступь Рока, вспомним, во второй половине жизни она оказалась в тисках двух тоталитарных молохов эпохи, коммунизма и фашизма, которые сначала лишили её любимого дела, а потом и жизни. Но об том чуть позже, поскольку в какой-то период жизни её вело само провидение. Именно провидением можно назвать то, что она оказалась в клинике Бургхёльцли, что лечащим врачом её оказался Карл-Густав Юнг, что Карл-Густав Юнг поверил в метод Фрейда и решил реализовать его на практике.
Парадокс: человек может родиться в нужное время, в нужном месте, и это определит успех его жизни, человек может оказаться на дальней обочине истории, и это сохранит ему жизнь, а случается, что человек сталкивается с историей лоб в лоб, сама история надвигается на человека как танк, который раздавливает его своими гусеницами.
Сабине повезло, что она родилась на 29 лет позже Фрейда, что её можно было лечить открытым им методом. Благодаря Фрейду сократилась дистанция между нормой и её нарушением. После Фрейда, перефразируя поэта, можно было сказать, «все мы психи, каждый из нас по-своему псих»[241]. Если позволить себе некоторое упрощение, метод Фрейда заключался в том, что следовало довериться врачу-психиатру
…оставим сложнейший вопрос, а каким должен оказаться лечащий врач-психиатр…
рассказать ему о самом потаённом, о чём не решаешься рассказать самой себе. Чтобы псих – перестал быть психом. Всё это буквально придумано для Сабины Шпильрейн.
Сабине повезло с лечащим врачом, который поверил этому новому методу и сумел применить его к сложной, истеричной пациентке. Она не побоялась рассказать врачу о странностях своей физиологии, о которых не расскажешь никому, даже самым близким людям, даже родной матери. Перед «честным и красивым» мужчиной оказалось беззащитное тело и беззащитная психика, беззащитные до уязвимости, и этот мужчина, врач, проявил не только огромное терпение, но и человеческую деликатность.
При этом, у нас есть все основания считать, что Сабине повезло с лечащим врачом ровно настолько, насколько лечащему врачу повезло с пациенткой. Если вынести за скобки их интимные отношения, то можно признать, что главным фактором, который способствовал исцелению Сабины, были взаимные терапевтические (аналитические) отношения врача и пациентки. Сказанное служит дополнительным аргументом в затянувшемся споре по поводу болезни Сабины: «кризис versus психоз».