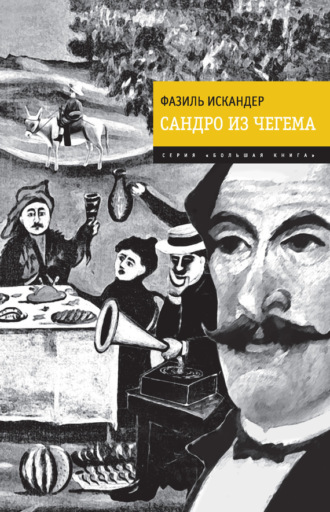
Полная версия
Сандро из Чегема
В связи с последним обстоятельством некоторые люди, уполномоченные для того, нарочно подсаживались к ним и узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Коля рабочих не баламутил, и его оставили в покое с тем, чтобы он в согласии с ходом истории перековывался или отмирал вместе с нэпом.
Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану прислать за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за прилавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки.
– Какой счет? – неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови. Тем не менее он всегда посылал эти запрошенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покейфовать, согласно названию кофейни, передохнуть от мчащегося и громящего, как порожняк на рельсах, времени.
Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю Зархиди. Однажды нежданно-негаданно его к себе вызвал наш замечательный революционер, бессменный, пока его не отравил Берия, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба.
Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые.
Нестор Аполлонович пригласил его в свой кабинет, расположенный в его бывшем особняке. Он рассказал ему суть дела и предложил честно работать с советской властью. За это он обещал ему предоставить приличную квартиру и вернуть все, что найдется из реквизированной мебели.
– Я согласен, – сказал Коля, – только мебель не надо.
– Почему? – удивился Нестор Аполлонович и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху. Он был глуховат, Нестор Аполлонович. С плутовской улыбкой (каждый грек немного Одиссей) Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Нестор Аполлонович обернулся и сказал со своей милой, обезоруживающей улыбкой: – У них бой хороший, а я плохо слышу…
Больше к вопросу о мебели не возвращались. Впоследствии Нестор Аполлонович никогда не пытался, в отличие от некоторых, отомстить ему за этот дерзкий жест, потому что, опять же в отличие от некоторых, сам был человеком остроумным и ценил в людях находчивость.
Кстати, небольшой пример его находчивости. Однажды на одном совещании в Тбилиси один из ораторов сказал, что в Абхазии, несмотря на неоднократные указания, все еще медленно строят шоссейные дороги.
– По-видимому, – добавил он не слишком тактично, – мы недостаточно громко об этом говорим, и Нестор Аполлонович нас плохо слышит.
– Слышу, – писклявым голосом, свойственным людям с поврежденным слухом, выкрикнул Нестор Аполлонович.
– Тогда давайте, – попросил оратор и, уступив ему трибуну, проковылял на место походкой, свойственной хромым от рождения.
Говорят, в ответной справке Нестор Аполлонович дал толковый отчет о дорожном строительстве в Абхазии, сказал о недостатках и достижениях в этом деле. В конце он добавил, что хотя в Абхазии строились и будут строиться шоссейные дороги так, как тому нас учит партия, все же проложить такой шоссейной дороги, особенно в горных условиях, на которой данный товарищ не хромал бы, мы, конечно, не можем.
Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархиди снова оказался при деле. В ближайший год он наладил закупку табаков у населения, переработку и дальнейшую продажу за границей.
Нестор Аполлонович доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез золото. Через год Коля Зархиди повез в Стамбул еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через два года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях, и, видно, Коля не удержался…
Это вероломство (вольное или невольное) сильно огорчило Нестора Аполлоновича. Пожалуй, всех огорчил Коля Зархиди своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего – Даша осталась с ним.
Но и ему пришлось несладко – кончался нэп, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух: или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить продажу в кофейне горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился, но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню.
Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, в котором продавал восточные сладости собственного изготовления: рахат-лукум, козинаки, халву, щербет… Бесполезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом.
В этом качестве его привел в наш двор мой отец. Он переехал к нам со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе называли бывшей красавицей, а иногда, по-видимому, для сокращения, просто бывшей.
Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым, высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозил со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая.
Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости и перешел на жареные каштаны и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора.
А бывало, вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнатенки, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанщика, мелодию, цепенящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда.
Бисмилах ирахмани ирахим! – блажен, кто блажен!..
Глава 5. Битва при Кодоре, или Деревянный броневик имени Ноя Жордания
Подобно тому, как на скотном дворе стоит сделать неосторожный шаг, как тут же угодишь в коровью лепешку, так и в те времена, говаривал дядя Сандро, бывало, носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю.
В тот день дядя Сандро гостил у своего друга в селе Анхара, расположенном на живописном берегу Кодора. В этом большом и зажиточном селе уже с полгода стоял меньшевистский отряд. На другом берегу реки стояли красные. В этом месте был проложен, тогда еще единственный, мост через Кодор. С этой стороны моста меньшевики охраняли мост от большевиков, тогда как с другой стороны моста большевики охраняли мост от меньшевиков.
В то время было или казалось, а то и делали вид, что было временное равновесие сил. Так или иначе, меньшевистская охрана так же, как и наша, скучала и от нечего делать, а также для разнообразия солдатского стола, глушила рыбу.
Глушили рыбу километра за два выше моста, и мертвая форель кверху брюхом плыла вниз по течению. Иногда рыба, оглушенная меньшевиками, попадала к большевикам, иногда наоборот.
Как только раздавались взрывы, по обе стороны реки появлялись мальчишки, потому что солдаты и красноармейцы, как ни старались, не могли выловить всю рыбу – течение, даже здесь, в низовьях Кодора, очень быстрое.
Так как было еще неясно, кто будет наступать – большевики или меньшевики, обе стороны по взаимному согласию и договоренности глушили рыбу, чтобы не повредить моста, на достаточно большом расстоянии от него. Таким образом, сравнительно мирные взрывы раздавались почти каждый день, потому что обе стороны отчасти старались доказать, что у них гранат и других боеприпасов достаточно, так что в случае войны есть чем встретить врага.
Меньшевики в первое время, когда расположились в этом селе, объявили его Закрытым Городом, чтобы красные лазутчики не могли шпионить за ними. Кроме того, они побаивались и партизан, хотя, как потом выяснилось, в этих местах никаких партизан не было, потому что те, кто хотел воевать на стороне большевиков, могли просто переплыть Кодор и присоединиться к ним.
Как только меньшевики объявили село Закрытым Городом и стали ограничивать впуск и выпуск людей из села, жители его с особенной остротой стали переживать вынужденную разлуку со своими близкими и не могли успокоиться до тех пор, пока те не приезжали или они сами не наведывались к ним.
А как быть с освященной древними традициями необходимостью побывать на свадьбе и других родовых торжествах? А дежурство у постели больного родственника? А годовщина смерти, а сорокадневье? Я уж не говорю о свежих похоронах.
Одним словом, поднимался ропот, и командование, не решаясь осложнять свои отношения с местным населением, тем более что отряд в значительной степени кормился за счет него, и в то же время стараясь сохранить престиж, отменило свой приказ и, наоборот, объявило село Анхара Открытым Городом для всех, кроме большевиков.
Тут местные жители успокоились, и уже разлуку с близкими стали переживать менее болезненно, и уже никто никого не приглашал чересчур настойчиво и никто никуда не уезжал без особой надобности, а все делалось в меру, как того требуют обычаи и собственное желание.
Так обстояли дела в селе Анхара до первых дней мая 1918 года. Именно в эти дни дядя Сандро гостил у своего друга, жителя этого села, и на его глазах, можно сказать, история сдвинулась с места и покатилась по черноморскому шоссе.
Друга дяди Сандро звали Миха. Был он, по его описаниям, человеком статным, приятным с виду и умным. Слегка разводя руками и оглядывая свою сановитую фигуру, дядя Сандро так о нем говорил:
– Видишь, какой я? Так вот он был почти не хуже.
По словам дяди Сандро, этот самый друг его разбогател на свиньях. Каждую осень он перегонял своих свиней в самые глухие каштановые и буковые урочища и держал их там вплоть до первого снега.
В те времена в этих урочищах каштанов и буковых орешков лежало на земле по колено. Свиньи жирели с неимоверной быстротой, так что к концу осени некоторые уже не могли встать на ноги и, ползая на брюхе, продолжали пастись и жиреть. В конце концов, когда выпадал первый снег, свиней перегоняли домой, а оттуда на базар.
Наиболее преуспевших в ожирении приходилось перевозить на ослах, потому что сами они передвигаться не могли. Конечно, какую-то часть уничтожали волки и медведи, но все равно выручка от продажи свиней перекрывала эту усушку и утруску за счет хищников.
Ни до него, ни, кажется, после него никто не догадывался перегонять свиней на осенний выпас в каштановые леса, подобно тому, как перегоняют травоядных на летние пастбища.
Впрочем, все это не имеет никакого отношения к самой сути моего рассказа. Вернее, почти никакого.
Правда, время было тревожное. И когда на дорогах Абхазии люди стали встречать ослов, навьюченных свиньями, этими злобно визжащими, многопудовыми бурдюками жира, верхом на длинноухих терпеливцах, то многие, особенно старики, видели в этом зрелище мрачное предзнаменование.
– Накличешь беду, – говаривали они Михе, останавливаясь на дороге и провожая глазами этот странный караван.
– Я сам не ем, – пояснял тот мимоходом, – я только нечестивцам продаю.
Так вот, в то утро дядя Сандро вместе со своим другом сидел за столом и завтракал. Они ели холодное мясо с горячей мамалыгой. Дядя Сандро нарезал аккуратные кусочки мяса, обмазывал их аджикой, клал в рот, после чего досылал туда же ломоть мамалыги, не забыв предварительно окунуть его в алычевую подливку. Хозяин время от времени подливал красное вино.
Разговор шел о том, что горные абхазцы, в отличие от долинных, более консервативны и все еще не хотят разводить свиней, тогда как это очень выгодное дело, потому что и горах полным-полно буковых и каштановых рощ.
Хозяин давал знать, что ценит широту взглядов, которую проявляет дядя Сандро как представитель горной Абхазии, тем более что в самом селе Анхара многие никак не могли смириться с тем, что Миха вот так вот запросто, ни с того ни с сего взял да и разбогател на свиньях.
Земляки завидовали Михе, а так как догнать его в обогащении на свиньях уже не могли, им ничего не оставалось, как кричать ему вслед, что он плохой абхазец.
Дядя Сандро жаловался, что у него нет времени заниматься свиньями, а отец не соглашается их разводить из глупого мусульманского упрямства. Миха обещал ему при случае поговорить по этому поводу с отцом дяди Сандро, хотя ему было неясно, почему у дяди Сандро находится время на всякое мало-мальски заметное застолье (в пределах Абхазии), а на разведение свиней не хватает. Миха, разговаривая с гостем, по привычке прислушивался к мирному похрюкиванию свиней в загоне и глухим взрывам со стороны реки. Сегодня взрывы эти доносились отчетливей, и разговор невольно обратился к последним новостям, вызвавшим усиление этих неприятных звуков.
Дело в том, что позапрошлой ночью к меньшевикам прибыло подкрепление, и они стали готовиться к штурму моста. И то и другое они старались, насколько это возможно, скрыть от постороннего глаза. Скрыть, разумеется, не удавалось, и тот берег обо всем знал.
Во всяком случае, сразу же после прибытия подкрепления, то есть на следующий день с утра, большевики первые нарушили договор и стали глушить рыбу совсем рядом с мостом, тем самым показывая, что они знают и о прибывшем подкреплении, и о готовящемся штурме.
Глушением рыбы возле моста они показывали, что у них теперь нет никакого резона беречь мост, по которому собираются наступать меньшевики, а, наоборот, даже есть интерес взорвать его. И все-таки они его не взрывают. А почему? А потому, что уверены в своих силах.
Кстати, меньшевики после прибытия подкрепления заняли большой сарай местного князя, который использовал его обычно для общественных собраний (понимай – пиршеств) при плохой погоде.
Они выставили усиленную охрану и стали что-то строить внутри сарая. А что они строят, никто не знал. Знали только одно, что меньшевики купили у местного населения десять арб, но использовали от них только колеса, а почему не использовали остальные деревянные части, было неизвестно. Кроме того, они купили у местных крестьян каштановые балки и доски и, надо честно сказать, купили щедро – по хорошей цене.
Одним словом, было ясно, что там что-то строится, что это что-то будет на колесах арб, но что из себя представляет это что-то, никто не знал.
Одни говорили, что меньшевики строят огромную бомбу, которую на колесах довезут до Мухуса и там, раскатив ее с пригорка Чернявской горы, пустят на город и взорвут его. Другие говорили, что строится не бомба, а деревянный броневик имени Ноя Жордания. Правда, на вопрос, что же послужит тягловой силой этому броневику, никто ничего определенного не мог ответить.
Рядом с этим сараем лежало зеленое поле, общественный выгон, и некоторые крестьяне беспокоились, как бы во время строительства этого сооружения оно не взорвалось и не покалечило скот или кого-нибудь из людей.
На этот день, который мы сейчас описываем пером, свободным от предрассудков, была назначена сходка перед конторой старшины. На нее должно было явиться взрослое население мужского пола.
Насильственная мобилизация была маловероятна, хотя и не вполне исключена, поэтому Миха не спешил на сходку, а ждал оттуда вестей, тем более что для неявки у него была достаточно уважительная причина – в доме гость.
После того как жена его прибежала от соседей и сказала, что мобилизации не будет, потому что сходку уговаривать уговаривают, а оцеплять не оцепляют, хозяин решил пойти туда вместе с дядей Сандро.
Верный своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий, дядя Сандро тщательно выскоблил из кости, лежавшей перед ним, костный мозг, слегка обмазал его аджикой и отправил все в рот, жестом показывая хозяину, что теперь он готов идти на сходку.
Дядя Сандро и Миха вышли на веранду, где вымыли руки и ополоснули рты. Спустились вниз во двор. Здесь их встретил десятилетний хозяйский мальчик, всем своим видом показывая готовность выполнить любое поручение.
Дядя Сандро подумал, что друг его, несмотря на то, что занимается разведением свиней, все-таки правильно, по-нашему воспитывает детей. Он одобрительно посмотрел на мальчика и поручил ему поймать свою лошадь и загнать во двор. Он хотел быть готовым ко всему.
– С этими никогда не знаешь, то ли гнаться за кем, то ли бежать от кого, – сказал он своему другу, на что тот понимающе кивнул.
– С теми тоже, – добавил Миха.
Дядя Сандро и Миха вышли на проселочную улицу. Со стороны моря дул свежий бриз, внизу под обрывистым склоном желтела всеми своими рукавами дельта Кодора. Солнце играло на зелени, до того свежей и пушистой, что хотелось встать возле молодого куста дикого ореха и кротко обглодать его.
Дядя Сандро подумал, что такие мысли не ко времени и, щелкнув камчой по мягкому голенищу своего сапога, бодро зашагал, как бы подгарцовывая небесной музыке этого цветущего и тревожного дня.
Дядя Сандро любил, спешившись, ходить вот так вот с камчой. Он чувствовал, что человек с камчой всегда производит на других благоприятное впечатление. Держа в руках камчу, прохаживаясь и постукивая ею по голенищу, дядя Сандро чувствовал, как в нем крепнет хозяйская готовность оседлать ближнего, тогда как та же камча нередко на глазах у дяди Сандро вызывала и укрепляла в ближнем способность быть оседланным. А у иных, замечал дядя Сандро, при взмахе камчи в глазах появлялась даже как бы робкая тоска по оседланности.
Дядя Сандро любил прогуливаться с камчой, но не потому, что стремился оседлать ближнего. Здесь была своего рода военная хитрость, самооборона. Если у тебя вид человека, стремящегося оседлать ближнего, говаривал дядя Сандро, то уж, во всяком случае, тебя не слишком будут стремиться оседлать другие.
Конечно, бывали случаи, когда у некоторых людей вид этой камчи вызывал раздражение, но дядя Сандро считал, что это просто зависть или ревность к его хозяйской готовности оседлать ближнего.
По дороге стали попадаться жители села, верхом или пешком идущие на сходку. Кое-кто торопился, а кое-кто не спешил. Через некоторое время они догнали арбу, груженную песком. Друзья заторопились, потому что знали – она направляется к этому сараю, где меньшевики строят свое секретное оружие. Оказывается, для этого оружия им понадобился песок, и они наняли крестьян возить его.
Было известно, что аробщиков, привозящих песок, к самому сараю не подпускают, им приказывают отойти в сторону и сами заводят арбу в сарай, сами ее разгружают и потом подводят пустую арбу к хозяину, с тем чтобы она снова ехала за песком.
Поравнявшись с арбой, дядя Сандро сразу же узнал аробщика, это был Кунта Маргания, когда-то работавший пастухом и живший в их доме.
Увидев дядю Сандро, Кунта обрадовался и на ходу спрыгнул с арбы. Обнялись. Кунта теперь шел рядом с дядей Сандро, изредка помахивая над буйволами длинным прутом:
– Ор! Хи!
Арба немилосердно скрипела, а буйволы, наклонив рогатые головы, тянули ее, как бы стараясь разъехаться в разные стороны.
Разговаривая с Кунтой, дядя Сандро поглядывал на него и думал о том, что рановато постарел Кунта. Ему было не больше сорока, но выглядел он уже чуть ли не старичком. Маленького роста, большерукий, и горб за спиной как вечная кладь. В чувяках из сыромятной кожи, сейчас он бесшумно шагал рядом, напоминая дяде Сандро о собственном детстве, таком далеком и таком безгрешном.
Кунта был человеком добрым и, прямо скажем, глупым. Он почти не мог самостоятельно вести хозяйство – разорялся. Обычно после этого он нанимался к кому-нибудь пастушить. За несколько лет становился на ноги, брался за самостоятельную жизнь и снова разорялся.
Правда, по слухам, теперь у Кунты взрослый сын, и он с его помощью справляется со своим нехитрым хозяйством. После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил.
– Слыхали? – спросил он и заглянул в глаза дяде Сандро.
– Смотря что? – сказал тот.
– Меньшевики добровольцев берут, – важно заметил Кунта.
– Это и так все знают, – сказал Миха.
– Говорят, – пояснил Кунта с хитрецой, – если возьмут Мухус, разрешат потеребить лавки большевистских купцов.
– Выходит, если Мухус возьмешь, что хочешь бери? – спросил дядя Сандро, потешаясь над Кунтой и подмигивая Михе.
– Сколько хочешь не разрешается, – сказал Кунта, не чувствуя, что над ним смеются, – разрешается только то, что один человек на себе может унести.
– Что же ты хотел бы унести? – спросил дядя Сандро.
– Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, – с удовольствием перечислял Кунта, – в хозяйстве все нужно.
– Слушай, Кунта, – серьезно сказал дядя Сандро, – сиди дома и кушай свою мамалыгу, а то худо тебе будет…
– Переполох, – вздохнул Кунта, – в такое время многие добро добывают.
– Сиди дома, – подтвердил Миха, – сейчас не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
– Тебе хорошо, у тебя свиньи, – как о надежной твердой валюте напомнил Кунта и, немного подумав, добавил: – Я-то сам не иду, сына посылаю…
Они вышли на лужайку перед конторой, и сразу же гул толпы донесся до них. Под большой, развесистой шелковицей стояло человек триста – четыреста крестьян. Те, что уместились в тени шелковицы, сидели прямо на траве. Позади них стоя толпились остальные. Среди них выделялось десятка полтора всадников, что так и не захотели спешиться. У коновязи трепыхалась сотня лошадиных хвостов.
Кунта попрощался с друзьями и легко вскочил на арбу.
– Подожди, – вспомнил дядя Сандро про тайное оружие меньшевиков, – ты о нем что-нибудь знаешь? – Он кивнул в сторону сарая.
– Нас близко не подпускают, – сказал Кунта.
– А ты попробуй, придурись как-нибудь, – попросил дядя Сандро.
– Хорошо, – уныло согласился Кунта и, взмахнув прутом, огрел вдоль спины сначала одного, а потом и второго буйвола, так что два столбика пыли взлетели над могучими спинами животных.
– Да ему, бедняге, и придуряться не надо, – заметил Миха.
Дядя Сандро кивнул с тем теплым выражением согласия, с которым все мы киваем, когда речь идет об умственной слабости наших знакомых.
– Эртоба! Эртоба! – первое, что уловил дядя Сандро, когда они с Михой приблизились к толпе. Это были незнакомые дяде Сандро слова. Они подошли к толпе и осторожно заглянули внутрь.
У самого подножия дерева за длинным столом сидело несколько человек. Стол этот, давно вбитый в землю для всяких общественных надобностей, сейчас, из уважения к происходящему, был покрыт персидским ковром, принадлежащим местному князю.
Сам князь, пожилой, подтянутый мужчина, тоже сидел за столом. Кроме него за столом сидели два офицера: тот, что был с отрядом, и тот, что прибыл с подкреплением. Дядя Сандро сразу же по глазам определил, что оба настоящие игроки, ночные птицы.
Рядом с князем сидел и явно дремал огромный, дряхлый старик в черкеске с длинным кинжалом за поясом, с башлыком, криво, по-янычарски повязанным на большой усатой голове. Усы были длинные, но как бы изъеденные временем, негустые. Это был известный в прошлом головорез Нахарбей.
Хотя по происхождению он был простым крестьянином, за неслыханную дерзость и свирепость в расправе со своими недругами он пользовался уважением почти наравне с самыми почтенными представителями княжеских фамилий, что, в свою очередь, рождало догадку о характере заслуг далеких предков нынешних князей, которые вывели их когда-то из толпы обыкновенных людей и сделали князьями.
Поговаривали, что Нахарбей участвовал в походах Шамиля, но так как сам он уже смутно помнил все кровопролития своей цветущей юности и иногда аварского Шамиля путал с абхазским Шамилем, известным в то время абреком, то местные заправилы, стараясь преуспеть в большой политике, поддерживали то одну, то другую версию. Сейчас господствовал аварский вариант, потому что борьба меньшевиков с большевиками довольно удобно укладывалась в традиции борьбы с царскими завоевателями.
Нахарбей дремал, склонив голову над столом, иногда сквозь дрему ловя губами нависающий ус. Порой он открывал глаза и смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом.
У края стола возвышался оратор. Никто не знал его должности, но дядя Сандро, оценивая происходящее, решил, что он – меньшевистский комиссар. Это был человек с бледно-желтым лицом, с чересчур размашистыми движениями рук и блестящими глазами.
Говорил он на чисто абхазском языке, но иногда вставлял в свою речь русские или грузинские слова. Каждый раз, когда он вставлял в свою речь русские или грузинские слова, старый Нахарбей открывал глаза и направлял на него смутно-враждебный взгляд, а рука его сжимала рукоятку кинжала. Но пока он это делал, оратор снова переходил на абхазский язык, и взгляд престарелого джигита затягивался дремотной пленкой, голова опускалась на грудь, а рука, сжимавшая рукоятку кинжала, разжималась и сползала на колено.









