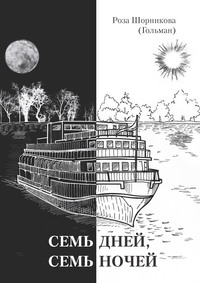Полная версия
День рождения семьи
Пожалуй, только сейчас, когда он сам уезжал в неизвестность, оставляя здесь, на родном островке земли, самое дорогое, что есть в его жизни. Как же невыносимо тяжело было тогда им, родителям его? Как же он не понимал тогда этого? Боялся показаться слабым? В чем? В любви к своим близким, к своей семье?!
Сегодня он уезжает. И никто не провожает его в этот далекий неведомый путь. Почему? Сам не позволил.
Макар Савич посмотрел на небольшие группки людей, расположившиеся вдоль дороги. Горе объединило всех. Люди пытались как-то приободрить, поддержать друг друга. Старались держаться вместе.
Ему вдруг нестерпимо захотелось, чтобы здесь оказалась Любаша. Макар Савич улыбнулся в жесткие усы при воспоминании о ней. Как он подобрал ее тогда в зимнем лесу. Ведь, замерзла бы совсем.
Привязался он к ней. Ладная Любаша оказалась, сноровистая. По дому управляется, любо-дорого посмотреть. Все в чистоте и порядке содержит. И ей хорошо. Чисто, тепло, сытно.
Но нет. Что-то другое заставило сейчас Макара Савича вспомнить о Любаше. Что-то совсем близкое, родное.
За своими думами Макар Савич не заметил, как все разместились на телегах, и обоз двинулся в путь, сопровождаемый уже не сдерживаемым плачем провожающих. Он обернулся и еще раз посмотрел в сторону своего хутора. И вдруг на самой верхушке дальнего холма он увидел маленькую фигурку и развевающийся над ней яркий платок. «Прощай, Любаша», – с горечью подумал он.
А впрочем, может быть, ему это только померещилось?
3
В городе их разместили в спортивном зале одной из школ. Народу было много. Новобранцы, в основном гражданские, не обученные военному ремеслу люди, пытались как-то приспособиться к новым временным условиям жизни. Макар Савич держался особняком и не прислушивался к чужим разговорам. Пашку Федорова он заметил сразу. Тот сидел в противоположном углу и, медленно затягиваясь папиросой, о чем-то думал. Макар Савич вспомнил, как тот прибежал к нему за лошадью, белый как полотно, испуганный. Аккурат накануне войны это было. Кто у него родился-то? Парень или девка? А какая теперь разница? Война. Вот и Пашку когда-то мать родила, а теперь – на фронт. И его тоже мать рожала. В муках, наверное. В ушах опять громким эхом отозвался ее прощальный крик. Наверное, до самой смерти не забудет его. До смерти. А долго ли до нее, до смерти этой? Война.
Пашка вдруг поднялся со своего места и направился к нему. Макар Савич пододвинулся, освобождая место рядом с собой. Павел сел, предложил закурить, закурил сам.
– Ну, что, Макар Савич, воевать надо, – то ли сказал, то ли спросил Пашка.
Макар Савич посмотрел на него и ничего не ответил. Что он мог сказать? А молоть языком просто для разговора не любил.
– Спасибо тебе, Макар Савич, – продолжал Пашка, не ожидая ответа собеседника, – выручил. Сын у меня родился. Андрюха. Скоро месяц будет!
Макар Савич продолжал молчать.
– Вот как же так, Макар Савич, – Пашка посмотрел на него, – почему людям жить не дают? Ведь я хочу видеть, как мой сын растет, хочу с ними быть рядом, с моей семьей. А нас разлучают. Фашисты проклятые! – он с силой стукнул кулаком по колену. – Сволочи!
Макар Савич повернул голову к Пашке. Изменился он. Повзрослел. Отец!
– Да, – вздохнул Макар Савич, принимая прежнее положение.
А ему уже пятый десяток, и нет у него ни сына, ни дочери. Ни сестер, ни братьев. Никого у него нет. Так может, это и к лучшему – тосковать не по кому. Кто знает?
4
Это был тяжелый бой. Зимний морозный воздух выхолаживает все внутри. А снаружи – жара. Немцы поливают огнем, словно хотят утопить в нем все вокруг. Крики, стоны, взрывы! Фонтанами взмывают в ревущее небо комья земли и снега. Страшно!
Макар Савич старался быть рядом с Пашкой. Отчаянный он хлопец! Не первый раз вместе в бой идут. Лезет в самое пекло. А с чем воевать-то? С ружьишком, которое в руках-то по-настоящему еще не держали. Не обучили толком, не одели. Несколько дней помуштровали на школьном дворе и сразу на фронт. Он-то хоть в гражданскую с оружием познакомился, а тут – мальцы совсем. Жалко, положат их. Разве с гранатой и ружьем против танка повоюешь?
Снова атака.
– За Родину! За Таську! За Андрюху моего! – кричит Пашка, поднимаясь во весь рост и выпрыгивая из окопа.
– Куда раньше всех, балабол! – Макар Савич бежит вслед за ним.
Каким-то подсознательным чувством он ощущает, что должен быть рядом с ним. Пока они вместе, ничего с ними не случится. Никто им не страшен!
Вдруг прямо под ногами вспыхивает яркий свет. Макар Савич на секунду замирает, ища глазами Пашку, и проваливается в кипящий огненный котел…
– Макар Савич! – кричит Пашка, видя, как тот падает на заснеженную землю. Он бежит к нему, но вдруг внезапно останавливается, словно наткнувшись на какое-то невидимое препятствие, и, медленно оседая, опускается рядом.
Так и остались они лежать на поле боя. Не друзья и не враги, а просто – два человека, два земляка, жизнью своей защищавшие свою землю.
Сестра Варвара
Дрожащее пламя керосиновой лампы освещало узкую комнатку с одним окошком, находившимся почти под самым потолком. Вдоль стены стояла кровать, застеленная простым суконным одеялом. Уголок одеяла был отогнут и приоткрывал ситцевую в мелкий горошек простынь и такую же наволочку на небольшой плоской подушке. Пол перед кроватью был устлан домотканой дорожкой. Рядом, на обычной крашеной табуретке, примостившейся между кроватью и противоположной стеной, аккуратной стопкой лежали молитвенники и, приставленная к ним, небольшая икона.
Перед иконой на коленях стояла женщина. Простое платье из черной ткани плотно облегало ее стройную фигуру с еще достаточно упругими формами. Лицо было уставшим, с обветренной сухой кожей, но еще не настолько испещренное морщинами, чтобы в нем не угадывались следы былой красоты. Вот только глаза…
В них не было жизни. Они существовали сами по себе где-то далеко от этого мира.
Женщина, прикрыв веки, беззвучно шевелила губами, периодически кланяясь и крестясь. Если бы она могла, то вообще никогда не открывала бы глаза. Не раз сожалела о том, что не ослепла в ту страшную минуту. Больше ей нечего было ждать от этой жизни. И не на что смотреть. И нечего слышать. Надо просто смиренно ждать, когда наступит тот миг, и она снова встретится со своим любимым. Но это будет другой мир и другая жизнь. Надо только ждать…
Любаша
1
Она не знала, сколько прошло времени после того, как обоз, увозивший Макар Савича на войну, скрылся из глаз. Может быть, полчаса, а может быть, два. Какая разница? И что теперь для нее жизнь без него? Пустота…
Любаша стояла, прислонившись к шершавому стволу старой березы, на самой верхушке холма. Отсюда было хорошо видно все, что происходило на площади. Хоть и приказывал Макар Савич не провожать его, но как только он вышел за порог, она тут же побежала следом. Тихонько, крадучись, чтобы не заметил. И почти все время простояла за этой толстой березой, осторожно выглядывая, чтобы не пропустить момент отъезда. А когда обоз двинулся, не утерпела, выбежала на край холма и стала размахивать платком. Чтобы оглянулся, заметил ее, махнул на прощание рукой.
Только сейчас, стоя на этом холме, она вдруг начала осознавать то, что сейчас произошло. А произошло страшное: ее разлучили с Макарушкой. Да, для нее, молоденькой неопытной девчонки этот солидный бородатый мужик был просто Макарушкой, любимым и самым дорогим на свете человеком.
Это началось, наверное, с того момента, как он подобрал ее, замерзающую, в том искрящемся белоснежном лесу. Нет, наверное, чуть позже. Когда стыдливо спрятала под одеяло от мужского взгляда свои худые ноги с еще по-детски торчащими коленками. Да, наверное. Щеки тогда так и зарделись ярким румянцем. Хорошо, что Макар Савич не заметил, быстро вышел из комнаты.
Не поехала она тогда к тетке своей, а осталась тут, на хуторе.
Два года она живет с ним и с Федькой в одном доме. Почти не разговаривают. Да особо и некогда разговаривать-то. Дел много, у каждого свои обязанности.
Только теперь Любаша поняла, кем для нее стал этот угрюмый неразговорчивый человек. Он стал частью ее самой. И вот теперь словно отрезают от нее половину. Половину ее тела, жизни, души. А как жить, разрезанной наполовину?
Любаша еще раз взглянула вниз. Пыль на дороге уже осела, словно и не было ничего. По-летнему светило солнце, порхали бабочки. К чему это все? Ведь жизнь закончилась.
2
Бесконечно долго тянулись страшные военные годы. Прощание, проводы, слезы, холод, постоянное ожидание непоправимых вестей с фронта, животный страх при виде почтальона и неимоверная радость от родных слов, написанных обычным простым карандашом на листочке бумаги…
Любаша ехала в телеге, умело держа в руках поводья. Буян, единственный конь, оставшийся на конюшне, спокойно шел по знакомой дороге.
Да, теперь Любаше все приходилось делать самой. Федор все-таки добился отправки на фронт. Хоть и инвалид, не смог усидеть дома. Уговорил военкома.
За все это время от Макара Савича пришло только одно письмо. Осенью сорок первого. Писал, чтобы не волновались за него, что воюет. С Пашкой вместе. Короткое было письмо, но Любаша все его перечитывала, каждую буковку запомнила. Вот, вроде, и никаких ласковых слов не написал, а таким теплом веет.
Потом на Пашку похоронка пришла. Любаша, хоть и не знала его толком, а жаль парня. Сынок у него только перед войной родился. Андрейкой, вроде бы, назвали. А у Таси после этого молоко пропало. Кормить мальчонку нечем стало. Вот и пришла она к Любаше за молоком. Так и договорились. То она приходила, то Любаша к ней относила. Ей-то нетрудно. А помогать друг дружке надо. Сейчас всем нелегко.
А мальчонка забавный такой! Любаша улыбнулась, вспомнив, как однажды Тася попросила ее подержать малыша на руках, пока молоко переливала. Улыбается ей, ручонками машет, лопочет что-то. Маленький такой, а, вроде бы, все понимает. Любаша даже подумала – вот бы у нее появился такой малыш. Она бы его так любила…
Мысли опять переключились на Макара Савича. Где он сейчас? Жив ли? Любаше стало не по себе. Она потуже натянула поводья и цокнула языком: «Эй, Буянушка, поедем шибче! А то что-то мы задержались, молоко скиснет…»
Макар Савич
1
Заканчивалась весна сорок пятого. Солдаты возвращались с войны. Кто – домой, кто – в неизвестность…
Макар Савич сидел с закрытыми глазами, прижавшись лбом к прохладному стеклу вагонного окошка. Он думал. О многом надо было подумать. Куда он едет? К кому? Ждут ли его в его родном доме?
Почему-то вспомнилась мать. Захотелось вдруг прижаться к ней, почувствовать родной теплый запах детства. Он теперь все больше вспоминал не минуты их расставанья, не тот истошный крик матери, который будил его по ночам долгие годы. Макар Савич старался припомнить каждое слово, которое говорил ему отец при их последней встрече. А говорил он тогда об их семье. Обида и злость на отца застилала глаза и притупляла слух. Дорого бы сейчас отдал Макар Савич за то, чтобы этот разговор повторился. Хотя бы в памяти. На многое из того, о чем говорил тогда отец, он сейчас ответил бы по-другому. Совсем по-другому.
Семья. Для отца тогда это было смыслом жизни. Он все делал для того, чтобы сохранить свою семью, удержать сына от роковых ошибок. Не понял Макар этого тогда. Ох, как не понял… И в тот последний вечер отец больше говорил о его, Макара, новой семье, которая обязательно должна была появиться в его жизни. А как же без семьи? Это – основа всего! Так говорил отец, но Макар только ухмылялся. Зачем ему семья? Обуза! Комсомол, колхоз – вот его жизнь! А семья, само собой, будет. Но это – не самое главное в жизни!
И что? Так бобылем и прожил. Только с лошадьми общий язык и нашел!
– Эх, – от тягостных воспоминаний заныла рука.
Макар Савич погладил торчащий в рукаве остаток предплечья. Больше трех лет прошло после ампутации, а ноет и болит, как живая. Чувствует ее Макар Савич, видно, никак не может смириться с тем, что инвалид он теперь.
– Эх-хе-хе, – он приоткрыл глаза. За окном мелькали деревья, столбы со струящимися проводами. Тяжело вздохнул и откинулся к стенке вагона.
«И куда еду? Зачем?» – опять поползли тревожные мысли.
Тогда, в сорок первом, после ранения он больше полугода промаялся по госпиталям. Никак рана не заживала. Да и сейчас дает о себе знать, а тогда хотели вовсе всю руку ампутировать. Но обошлось, слава Богу.
Домой возвращаться он не мог. Не хотел.
Пошел тогда к начальнику госпиталя и попросил остаться. Кем угодно готов быть. Хоть и калека, но не старый ведь еще. Силы есть. Приноровился управляться одной рукой.
«Хороший был человек, Василий Семенович», – ухмыльнулся Макар Савич, вспоминая всепонимающий взгляд сурового подполковника, скользнувший по его глазам, и остановившийся на пустом рукаве, заправленном за пояс гимнастерки.
Так и остался он там до конца войны, желая скорейшего ее завершения и больше всего на свете боясь этого момента.
Кто ждал его в родном хуторе? Из писем Любаши он знал, что Федор ушел на фронт. Жив ли? Конь Буян, старый друг! Почему-то Макар Савич был твердо уверен, что Буян ждет его. А как же? Друзья должны держаться вместе. Любаша…
Макар Савич упорно старался отогнать от себя мысли о ней. На письма не отвечал. Он еще по осени, в самом начале войны, написал им, чтобы не беспокоились о нем, не волновались. Любаша ответила. А он не стал. Ни к чему! Потом еще несколько писем получил. Из них узнал, что Пашку, односельчанина и дружка его фронтового, убили. Он-то все-таки думал, надеялся, что обойдется: без вести пропавший – еще не мертвый. А раз похоронка, то значит – все!
Любаша… Не ее ли он видел на том холме у старой березы, когда тронулся обоз, увозивший их на войну? Фигурка, вроде бы, знакомая. Да мало ли девушек провожало в тот день своих мужиков?
Во, надумал чего? Он что – ее мужик, что ли? Кто он, и кто она? Девчонка совсем! Пигалица! Ан, нет, все же она там была! Как пить дать, она! Макар Савич даже ухмыльнулся в усы.
И тут он вдруг представил себя и Любашу за столом с самоваром. А рядом на лавке детишки. Много детишек. Розовощекие, сытые, степенные с виду. А сами так и норовят поегозить под столом, чтобы отец не видел. Отец…
Макар Савич снова поморщился от боли в руке. Пятый десяток уже, какой там отец… А все ж таки семья! Может, в этом и есть настоящее счастье-то?
С этими мыслями он задремал.
2
Поезд медленно приближался к станции. Макар Савич стоял около двери с вещевым мешком за плечами. Мимо проплывали знакомые с детства места. Война почти не тронула этот пейзаж. Вспомнилось, как еще пацанами прибегали сюда смотреть на мелькающие огоньки проносящихся мимо поездов.
Небольшая площадь перед серым зданием вокзала встретила серой угрюмостью послевоенного времени вперемешку с приподнятым настроением возвращающихся с этой страшной войны уставших людей.
Макар Савич присел на большой камень, служивший здешним пассажирам скамейкой, и достал мешочек с махоркой.
«Может, не торопиться домой-то? – устало подумал он. – Побуду здесь, осмотрюсь, кого знакомых увижу. Расспрошу, что да как.»
Нужна была передышка от этих невыносимых мыслей, терзавших все эти годы, раздиравших на части все его существо.
Вдруг он повернул голову. Что-то едва уловимое, но до боли знакомое, заставило его насторожиться. «Буян, Буянушка!» – Макар Савич встал, и, как гончая по следу, пошел в сторону небольшого базарчика, приютившегося здесь же на другой стороне вокзала.
Он сразу увидел своего коня, впряженного в телегу и смотревшего прямо на него.
Они одновременно рванулись друг другу навстречу.
– Стой, чертяка окаян..! – осеклась на полуслове Любаша, разливая молоко мимо горлышка маленького бидончика.
Макар Савич, уткнувшись в уже поредевшую гриву коня, тихо плакал. А конь, повернув голову и скосив на него свой лиловый глаз, стоял не шевелясь, словно боясь нарушить эту минуту любви и покоя.
Домой ехали молча. Буян шел спокойно и уверенно, изредка косясь назад, проверяя, на месте ли хозяин. Макар Савич держал поводья одной рукой и что-то насвистывал себе в усы. Любаша сидела на краю телеги, с нежностью смотрела на ссутулившуюся спину Макар Савича и улыбалась.
Андрей
1
– Наденька моя идет! Обедать пора! – Андрей заглушил мотор огромного комбайна.
«Не старят ее годы! – он с нежностью посмотрел на приближающуюся фигурку жены. – Такая же ладная, как и пятнадцать лет назад».
Улыбнулся своим воспоминаниям.
В детстве он считал ее младшей сестрой. Андрей вообще рано стал ощущать себя взрослым. Как только война закончилась, мамка ему все рассказала об отце. Плакали они с мамой Тоней в тот вечер очень. Андрейка никак понять не мог: победа, а они плачут. Он знал, что папка на фронте. А раз победа, значит скоро прийти должен! Чего плакать-то? Радоваться надо!
Мать усадила его перед собой, вытерла глаза платком и тихо так сказала:
«Вот, Андрей…» Да, именно так и сказала: «Андрей», – по-взрослому! «Вот, Андрей! Теперь ты большой, ты теперь единственный мужчина у нас с Тонечкой… – она сделала небольшую паузу, вдохнула, словно собиралась с силами, чтобы говорить дальше. – А папка твой, Павел, погиб на фронте. Не придет он! И ждать нечего. Помнить только и остается…»
И снова обе разрыдались в голос.
Андрей уже тогда, несмотря на свой юный возраст, не разревелся, а только крепче сжал губешки и пристально посмотрел на плачущую мать. Потом перевел взгляд на Тоню. Она уткнулась лицом в платок, и взгляд его остановился на вздрагивающем горбике под тонкой ситцевой тканью халата. Вот тогда-то он и поклялся себе, что никогда и никому не позволит обидеть их. Любимых женщин его семьи!
2
Андрей спустился по ступенькам из кабины на землю. Шла страда. Чтобы не терять драгоценное время, все обедали прямо в поле. Устраивались, кто как мог. Кто-то брал с собой нехитрые съестные припасы. Кому-то родственники приносили вареной картошки с салом да овощей.
Наденька умудрялась принести даже щи в специальном горшочке с крышкой. Чтобы не остывало. И квасу холодного из погреба.
В такую жару больше всего хотелось пить, но Андрей ел с аппетитом, явно доставляя этим удовольствие жене.
Он любил делать ей приятно. И не только потому, что теперь она стала его любимой женщиной. Просто она всегда была женщиной его семьи!
3
– Мама Тоня, к тебе дяденька!
Андрейка был занят важным мужским делом: пытался молотком заколотить гвоздь, наполовину вылезший из доски на ступеньке дома. Молоток был большой и очень тяжелый. Мальчик поднимал его обеими ручками и, тяжело сопя, с силой, на которую был способен пятилетний малыш, опускал на шляпку толстого гвоздя.
Его не очень интересовал пришелец, но заметив, что тот продолжает стоять за забором, крикнул еще раз:
– Мама Тонь, идешь?
– Чего кричишь? Что за дяденька? – Тоня недовольно выбежала из дома, на ходу вытирая руки о передник.
Аккуратно обойдя мальчика, она спустилась со ступенек и пошла по направлению к незнакомцу.
У калитки, не заходя во двор, стоял мужчина. Видно, после хорошей порции самогона, он не очень твердо держался на ногах. В руках у него был завернутый в байковое одеяло грудной ребенок.
– Петр, ты что ли?
– Я это, Антонина, я, – мужчина стыдливо кашлянул в сторону.
– Давно не виделись, тебя и не узнать, – Тоня провела взглядом по испитому, изрезанному глубокими морщинами лицу собеседника. – Вот что водка-то делает! Довел себя совсем! Уморить себя хочешь что ли?
– Да, ладно, Антонина! Не обо мне речь-то.
Ребенок в свертке начал подавать признаки жизни.
– Вот, – Петр неловко попытался протянуть его Тоне.
– Ты чего? – Антонина невольно сделала шаг назад. – Чей это? У Любки украл что ли, прости Господи!
Она несколько раз перекрестилась.
– Ты что такое подумала, стерва! – Петр покачнулся на слабеющих ногах и начал оседать на землю. – Наденька это, кровиночка моя!
Антонина еле успела подхватить ребенка, как Петр завалился прямо под забор и громко захрапел.
Тоня несколько минут неподвижно стояла и ничего не понимающими глазами смотрела на него.
Из ступора ее вывел истошный детский крик, раздавшийся из одеяла. Антонина вздрогнула и приподняла уголок, прикрывающий лицо ребенка. Маленькое личико младенца покраснело от натуги, беззубый ротик был широко открыт, на лобике выступили капельки пота. Ему было так плохо в этом неуклюже завернутом свертке!
– Мама Тоня, – закричал подбежавший Андрейка, – неси его в дом! Он, наверное, есть хочет!
– Наверное, – машинально ответила Тоня, еще раз бросила взгляд на спящего Петра и быстро зашагала к дому.
4
Было уже далеко за полночь, но Андрейка не спал и все прислушивался к разговору мамки и мамы Тони за занавеской, отделявшей его кроватку от той части комнаты, в которой размещались взрослые.
Под подушкой лежала небольшая кривая палка, чем-то напоминавшая ружье. Так ему было спокойнее. В случае новой войны он этим оружием сможет их защитить. А хорошую девчонку им сегодня принес пьяный дядька Петя! Она, хоть и маленькая, но орет здорово! Громко! Ладно, он и ее тоже защитит, в случае чего.
– Ну, все, устала я, – услышал он голос матери, – ты тут с ней оставайся, а я с Андрейкой устроюсь. Завтра с утра все и решим.
Андрейка еще раз проверил, на месте ли палка, и подвинулся на край кровати, к самой стенке.
Наденька
1
Тася возвращалась с фермы после вечерней дойки очень уставшая. Первый послевоенный год. Тяжелое, голодное время. И для людей, и для скотины. Сена вдоволь не накосили. Коровы истощали совсем. Пока надоишь, все руки вывернешь…
С такими невеселыми мыслями она и не заметила, как вошла в дом.
Тоня и Андрейка сидели на кровати, плотно прижавшись друг к другу, явно что-то пряча за собой.
– Что-то случилось? Что там у вас? – насторожилась Тася, пытаясь заглянуть за их спины.
– Мамка, ты не ругайся! Нам дядька Петя Наденьку маленькую принес. Пусть она у нас поживет, а?
Тася перевела взгляд на Тоню, явно ничего не понимая.
– Тонь, в чем дело-то? У меня сил нет ваши загадки разгадывать!
Тоня молча отодвинулась, и в образовавшемся проеме Тася увидела розовое личико ребенка, аккуратно завернутого в Андрейкино одеяльце и сладко посапывающего во сне.
– Это кто?
– Я ж тебе говорю, Наденька это! – повторил Андрейка, сползая с кровати.
– Тасенька, ты погоди, садись. Я тебе сейчас все расскажу, – Тоня прихлопнула рукой по тому месту на кровати, на котором только что сидел Андрейка, приглашая сестру присесть рядом с собой.
– Тасенька, я вот что надумала, – она глубоко вздохнула, словно набираясь сил для разговора. – Приходил Петр с хутора. Брат Макар Савича. Знаешь ведь?
– Да, знаю, знаю, не тяни ты, – начала терять терпение Тася.
– Ну, вот, пришел с ребенком, отдал мне, а сам пропал.
– Как это – пропал? Испарился что ли? – Тася переводила непонимающий взгляд с Тони на ребенка.
– Ну да, испарился. Девчонку мне отдал, а сам уснул у нас под забором пьяный. А когда темнеть стало, я вышла, а его и след простыл! Убёг, ирод!
А может, и вправду, оставим девочку-то? Дочка у нас будет…
– Мамка, давай оставим… – почти шепотом произнес Андрейка, решив, что ему наконец можно включиться в разговор взрослых.
– Вы что, спятили совсем! А ты – марш спать! Полночь уже, а он тут рассуждает!
Андрейка беспрекословно ушел за занавеску. Он понял, что сейчас лучше мамку не злить…
2
– Откуда у Петра ребенок? Может, с Любкой что приключилось? – тихо спросила Тася, разглядывая малышку.
– Да нет! Любка уже такой шум подняла бы! Нашел где-нибудь… – так же тихо ответила Тоня. – Спьяну-то чего только не наговорил, ничего толком понять не успела. Свалился замертво, думала, до утра не очухается! А он, видишь как? Умотал втихаря!
Тоня просительно посмотрела на сестру.
– Тасенька, а может, и впрямь оставим девчонку-то? Будет Андрейке сестричка. У меня детей уже никогда не будет. Да и у тебя неизвестно, как еще повернется… Павлуша-то наш…
На глазах у нее выступили слезы. Тася молча взглянула на нее. Потом повернулась к ребенку.
– Да, конечно вдвоем им веселее будет! И по жизни, мало ли как сложится…
– Вот и я о том толкую. Все еще родной человечек у нашего Андрейки будет. Выкормим, небось! А завтра сходим на хутор и все толком разузнаем. Мы ведь, как Макар Савича похоронили, так с ними и не виделись. Нелюдимые они какие-то.