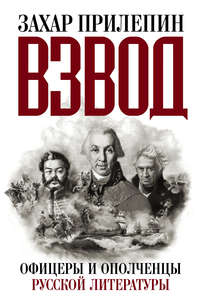Полная версия
Обитель

Захар Прилепин
Обитель
© Захар Прилепин
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
От автора
Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный.
До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало – свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.
“Бешеный чёрт!” – говорила про него бабушка. Она произносила это как “бешаный чорт!”. Непривычное для слуха “а” в первом слове и гулкое “о” во втором завораживали.
“А” было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, – причём второй глаз был сощурен. Что до “чорта” – то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: “Ааа… чорт! Ааа… чорт! Чорт! Чорт!” Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или, с кашлем, выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.
По слогам, вослед за бабушкой, повторяя “бе-ша-ный чорт!” – я вслушивался в свой шёпот: в знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.
Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил “маманю” – её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах – но боялась и слушалась его беспрекословно.
Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо.
Звали его Захар Петрович.
“Чей это парень?” – “А Захара Петрова”.
Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая – хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух – его было сразу и не различить.
Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей – ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нём – то лишь в его отсутствие.
Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал в землю – ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять: в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже – со временем и сам запамятовал.
Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, – но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл – по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.
Мы наезжали в родовой дом погостить – и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп – я помню его дух и поныне.
Сам тулуп был как древнее предание – искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений – весь наш род грелся и согревался в этой шерсти; им же укрывали только что, в зиму, рождённых телятей и поросяток, переносимых в избу, чтоб не перемёрзли в сарае; в огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство, и, если долго копошиться в тулупьих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусок, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.
А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.
Когда прадед умер, тулуп выбросили – чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.
Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.
Прадед сидел, на первый неумный взгляд преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул – дожил до девяноста и заставил всех собраться.
Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости и, когда за полночь – а праздник начинался в полдень – чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросившейся помочь бабки, шёл к своей лежанке, ни на кого не глядя.
Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.
“Как генералиссимус идёт…” – сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.
То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.
Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.
Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава – однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.
Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.
Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая порой, родня.
Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории – она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.
Эйхманиса он всегда называл “Фёдор Иванович”, было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека – основателя концлагерей в Советской России.
Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше – к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.
Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу – который, похоже, слышал эту историю, – как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.
Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого – и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок – напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, – всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь.
Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.
Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.
Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплака, потом другого и перья раскидал на крыльце, следом третьего… в общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. В первый удар щенок ужасно взвизгнул, а после второго – смолк.
Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, только разве что бороду и в ней рот наискосок, жующий что-то, – зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.
Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.
Штаны прадед называл шкерами, бритву – мойкой, карты – святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: “…О, лежит ненаряженный…” – но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.
Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.
Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой – в новом пересказе, крёстный – на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.
Однако ж общая картина понемногу начала складываться.
Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, – тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.
Бабушка тоже знала эту историю.
Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал это всё отцу – он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.
Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд – в то время как они были растянуты на год, а то и на три.
С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.
Истина – то, что помнится.
Прадед умер, когда я был на Кавказе – свободный, весёлый, камуфлированный.
Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались – одни, без взрослых.
Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.
Разве что у меня вырос сын четырнадцати лет.
Так случилось, что, пока все мои старики умирали, я всё время находился где-то далеко – и ни разу не попадал на похороны.
Иногда я думаю, что мои родные живы – иначе куда они все подевались?
Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо – всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: “Чорт! Чорт! Чорт!”
Ничего не нахожу.
Книга первая
Il fait froid aujourd’hui.
– Froid et humide.
– Quel sale temps, une véritable fièvre.
– Une véritable peste…[1]
– Монахи тут, помните, как говорили: “В труде спасаемся!” – сказал Василий Петрович, на мгновение переведя довольные, часто мигающие глаза с Фёдора Ивановича Эйхманиса на Артёма. Артём зачем-то кивнул, хотя не понял, о чём шла речь.
–C’est dans l’effort que se trouve notre salut?[2] – переспросил Эйхманис.
–C’est bien cela![3] – с удовольствием ответил Василий Петрович и так сильно тряхнул головой, что высыпал на землю несколько ягод из корзины, которую держал в руках.
– Ну, значит, и мы правы, – сказал Эйхманис, улыбаясь и поочерёдно глядя на Василия Петровича, на Артёма и на свою спутницу, не отвечавшую, впрочем, на его взгляд. – Не знаю, что там со спасением, а в труде монахи знали толк.
Артём и Василий Петрович в отсыревшей и грязной одежде, с чёрными коленями, стояли на мокрой траве, иногда перетаптываясь, размазывая по щекам лесную паутину и комаров пропахшими землёй руками. Эйхманис и его женщина были верхом: он – на гнедом норовистом жеребце, она – на пегом, немолодом, будто глуховатом.
Снова затеялся дождь, мутный и колкий для июля. Неожиданно холодный даже в этих местах, задул ветер.
Эйхманис кивнул Артёму и Василию Петровичу. Женщина молча потянула поводья влево, чем-то будто бы раздражённая.
– Посадка-то у неё не хуже, чем у Эйхманиса, – заметил Артём, глядя всадникам вслед.
– Да, да… – отвечал Василий Петрович так, что было понятным: слова собеседника не достигают его слуха. Он поставил корзину на землю и молча собирал высыпавшиеся ягоды.
– С голода вас шатает, – то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Артём, глядя сверху на кепку Василия Петровича. – Шестичасовой отзвонил уже. Нас ждёт прекрасное хлебалово. Картошка сегодня или гречка, как думаете?
Из леса к дороге подтянулись ещё несколько человек бригады ягодников.
Не дожидаясь, пока сойдёт на нет настырная морось, Василий Петрович и Артём зашагали в сторону монастыря. Артём чуть прихрамывал – пока ходил за ягодами, подвернул ногу.
Он тоже, не меньше Василия Петровича, устал. К тому же Артём снова очевидно не выполнил нормы.
– Я на эту работу больше не пойду, – тяготясь молчанием, негромко сказал Артём Василию Петровичу. – К чёрту бы эти ягоды. Наелся за неделю – а радости никакой.
– Да, да… – ещё раз повторил Василий Петрович, но наконец справился с собою и неожиданно ответил: – Зато без конвоя! Весь день не видеть ни этих, с чёрными околышами, ни лягавой роты, ни “леопардов”, Артём.
– А пайка у меня будет уполовиненная и обед без второго, – парировал Артём. – Треска варёная, тоска зелёная.
– Ну давайте я вам отсыплю, – предложил Василий Петрович.
– Тогда у нас обоих будет недостача по норме, – мягко посмеялся Артём. – Едва ли это принесёт мне радость.
– Вы же знаете, каких трудов стоило мне получить сегодняшний наряд… И всё равно ведь не пни корчевать, Артём, – Василий Петрович понемногу оживился. – А вы, кстати, заметили, чего ещё в лесу нет?
Артём что-то такое точно заметил, но никак не мог понять, что именно.
– Там не орут эти треклятые чайки! – Василий Петрович даже остановился и, подумав, съел одну ягоду из своей корзины.
В монастыре и в порту от чаек не было проходу, к тому же за убийство чайки полагался карцер – начальник лагеря Эйхманис отчего-то ценил эту крикливую и наглую соловецкую породу; необъяснимо.
– В чернике есть соли железа, хром и медь, – поделился знанием, съев ещё одну ягоду, Василий Петрович.
– То-то я чувствую себя как медный всадник, – мрачно сказал Артём. – И всадник хром.
– Ещё черника улучшает зрение, – сказал Василий Петрович. – Вот, видите звезду на храме?
Артём всмотрелся.
– И?
– Сколькиконечная эта звезда? – спросил Василий Петрович крайне серьёзно.
Артём секунду всматривался, потом всё понял, и Василий Петрович понял, что тот догадался, – и оба тихо засмеялись.
– Хорошо, что вы только многозначительно кивали, а не разговаривали с Эйхманисом – у вас весь рот в чернике, – сквозь смех процедил Василий Петрович, и стало ещё смешней.
Пока рассматривали звезду и смеялись по этому поводу, бригада обошла их – и каждый посчитал необходимым заглянуть в корзины стоявших на дороге.
Василий Петрович и Артём остались в некотором отдалении одни. Смех быстро сошёл на нет, и Василий Петрович вдруг разом осуровел.
– Знаете, это постыдная, это отвратительная черта, – заговорил он трудно и с неприязнью. – Мало ведь того, что он просто решил побеседовать со мной, – он обратился ко мне по-французски! И я сразу готов всё простить ему. И даже полюбить его! Я сейчас приду и проглочу это вонючее варево, а потом полезу на нары кормить вшей. А он поест мяса, а потом ему принесут ягоды, которые мы вот здесь собрали. И он будет чернику запивать молоком! Я же должен, простите великодушно, наплевать ему в эти ягоды – а вместо этого несу их с благодарностью за то, что этот человек умеет по-французски и снисходит до меня! Но мой отец тоже умел по-французски! И по-немецки, и по-английски! А как я дерзил ему! Как унижал отца! Чего же здесь я не надерзил, старая я коряга? Как я себя ненавижу, Артём! Чёрт меня раздери!
– Всё-всё, Василий Петрович, хватит, – уже иначе засмеялся Артём; за последний месяц он успел полюбить эти монологи…
– Нет, не всё, Артём, – сказал Василий Петрович строго. – Я тут стал вот что понимать: аристократия – это никакая не голубая кровь, нет. Это просто люди хорошо ели из поколения в поколение, им собирали дворовые девки ягоды, им стелили постель и мыли их в бане, а потом расчёсывали волосы гребнем. И они отмылись и расчесались до такой степени, что стали аристократией. Теперь мы вывозились в грязи, зато эти – верхом, они откормлены, они умыты – и они… хорошо, пусть не они, но их дети – тоже станут аристократией.
– Нет, – ответил Артём и пошёл, с лёгким остервенением растирая дождевые капли по лицу.
– Думаете, нет? – спросил Василий Петрович, нагоняя его. В его голосе звучала явная надежда на правоту Артёма. – Я тогда, пожалуй, ещё ягодку съем… И вы тоже съешьте, Артём, я угощаю. Держите, вот даже две.
– Да ну её, – отмахнулся Артём. – Сала нет у вас?
* * *Чем ближе монастырь – тем громче чайки.
Обитель была угловата – непомерными углами, неопрятна – ужасным разором.
Тело её выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен.
Она высилась так тяжело и огромно, будто была построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с небес и уловила оказавшихся здесь в западню.
Артём не любил смотреть на монастырь: хотелось скорее пройти ворота – оказаться внутри.
– Второй год здесь бедую, а каждый раз рука тянется перекреститься, когда вхожу в кремль, – поделился Василий Петрович шёпотом.
– Так крестились бы, – в полный голос ответил Артём.
– На звезду? – спросил Василий Петрович.
– На храм, – отрезал Артём. – Что вам за разница – звезда, не звезда, храм-то стоит.
– Вдруг пальцы-то отломают, лучше не буду дураков сердить, – сказал Василий Петрович, подумав, и даже руки спрятал поглубже в рукава пиджака. Под пиджаком он носил поношенную фланелевую рубашку.
– …А во храме орава без пяти минут святых на трёхъярусных нарах… – завершил свою мысль Артём. – Или чуть больше, если считать под нарами.
Двор Василий Петрович всегда пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлечь понапрасну ничьего внимания.
Во дворе росли старые берёзы и старые липы, выше всех стоял тополь. Но Артёму особенно нравилась рябина – ягоды её нещадно обрывали или на заварку в кипяток, или просто чтоб сжевать кисленького – а она оказывалась несносно горькой; только на макушке ещё виднелось несколько гроздей, отчего-то всё это напоминало Артёму материнскую причёску.
Двенадцатая рабочая рота Соловецкого лагеря занимала трапезную единостолпную палату бывшей соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.
Шагнули в деревянный тамбур, поприветствовав дневальных – чеченца, чью статью и фамилию Артём никак не мог запомнить, да и не очень хотел, и Афанасьева – антисоветская, как он сам похвастался, агитация – ленинградского поэта, который весело поинтересовался: “Как в лесу ягода, Тёма?” Ответ был: “Ягода в Москве, зам начальника ГэПэУ. А в лесу – мы”.
Афанасьев тихо хохотнул, чеченец же, как показалось Артёму, ничего не понял – хотя разве догадаешься по их виду. Афанасьев сидел, насколько возможно развалившись на табуретке, чеченец же то шагал туда-сюда, то присаживался на корточки.
Ходики на стене показывали без четверти семь.
Артём терпеливо дожидался Василия Петровича, который, набрав воды из бака при входе, цедил, отдуваясь, в то время как Артём опустошил бы кружку в два глотка… собственно, в итоге выхлебал целых три кружки, а четвёртую вылил себе на голову.
– Нам таскать эту воду! – сказал чеченец недовольно, извлекая изо рта каждое русское слово с некоторым трудом. Артём достал из кармана несколько смятых ягод и сказал: “На”; чеченец взял, не поняв, что́ дают, а догадавшись, брезгливо катнул их по столу; Афанасьев поочерёдно поймал все и покидал в рот.
При входе в трапезную сразу ударил запах, от которого за день в лесу отвыкли, – немытая человеческая мерзость, грязное, изношенное мясо; никакой скот так не пахнет, как человек и живущие на нём насекомые; но Артём точно знал, что уже через семь минут привыкнет, и забудется, и сольётся с этим запахом, с этим гамом и матом, с этой жизнью.
Нары были устроены из круглых, всегда сырых жердей и неструганых досок.
Артём спал на втором ярусе. Василий Петрович – ровно под ним: он уже успел обучить Артёма, что летом лучше спать внизу – там прохладней, а зимой – наверху, “…потому что тёплый воздух поднимается куда?..”. На третьем ярусе обитал Афанасьев. Мало того что ему было жарче всех, туда ещё и непрестанно подкапывало с потолка – гнилые осадки давали испарения от пота и дыханья.
– А вы будто и неверующий, Артём? – не унимался внизу Василий Петрович, пытаясь продолжить начатый на улице разговор и одновременно разбираясь со своей ветшающей обувкой. – Дитя века, да? Начитались всякой дряни в детстве, наверное? Дыр бул щыл в штанах, навьи чары на уме, Бог умер своей смертью, что-то такое, да?
Артём не отвечал, уже прислушиваясь, не тащат ли ужин – хотя раньше времени пожрать доставляли редко.
На сбор ягод он брал с собой хлеб – с хлебом черника шла лучше, но докучливый голод в конечном счёте не утоляла.
Василий Петрович поставил на пол ботинки с тем тихим бережением, что свойственно неизбалованным женщинам, убирающим на ночь свои украшения. Потом долго перетряхивал вещи и наконец горестно заключил:
– Артём, у меня опять украли ложку, вы только подумайте.
Артём тут же проверил свою – на месте ли: да, на месте, и миска тоже. Раздавил клопа, пока копошился в вещах. У него уже воровали миску. Он тогда взял у Василия Петровича 22 копейки местных соловецких денег взаймы и купил миску в лавке, после чего выцарапал “А” на дне, чтоб, если украдут, опознать свою вещь. При этом отлично понимая, что смысла в отметке почти нет: уйдёт миска в другую роту – разве ж дадут посмотреть, где она да кто её скоблит.
Ещё клопа раздавил.
– Только подумайте, Артём, – ещё раз повторил Василий Петрович, не дождавшись ответа и снова перерывая свою кровать.
Артём промычал что-то неопределённое.
– Что? – переспросил Василий Петрович.
– Подумал, – ответил Артём и добавил, дабы утешить товарища: – В ларьке купите. А сейчас моей поужинаем.
Вообще Артёму можно было и не принюхиваться – ужин неизменно предварялся пением Моисея Соломоныча: тот обладал замечательным чутьём на пищу и всякий раз начинал подвывать за несколько минут до того, как дежурные вносили чан с кашей или супом.
Пел он одинаково воодушевлённо всё подряд – романсы, оперетки, еврейские и украинские песни, пытался даже на французском, которого не знал, – что можно было понять по отчаянным гримасам Василия Петровича.
– Да здравствует свобода, советская власть, рабоче-крестьянская воля! – негромко, но внятно исполнял Моисей Соломонович безо всякой, казалось, иронии. Череп он имел длинный, волос чёрный, густой, глаза навыкате, удивлённые, рот большой, с заметным языком. Распевая, он помогал себе руками, словно ловя проплывающие мимо в воздухе слова для песен и строя из них башенку.
Афанасьев с чеченцем, семеня ногами, внесли на палках цинковый бак, затем ещё один.
На ужин строились повзводно, занимало это всегда не меньше часа. Взводом Артёма и Василия Петровича командовал такой же заключённый, как они, бывший милиционер Крапин – человек молчаливый, суровый, с приросшими мочками. Кожа лица у него всегда была покрасневшая, будто обваренная, а лоб выдающийся, крутой, какой-то особенно крепкий на вид, сразу напоминающий давно виданные страницы то ли из учебного пособия по зоологии, то ли из медицинского справочника.
В их взводе, помимо Моисея Соломоновича и Афанасьева, имелись разнообразные уголовники и рецидивисты, терский казак Лажечников, три чеченца, один престарелый поляк, один молодой китаец, детина с Малороссии, успевший в Гражданскую повоевать за десяток атаманов и в перерывах за красных, колчаковский офицер, генеральский денщик по прозвищу Самовар, дюжина черноземных мужиков и фельетонист из Ленинграда Граков, отчего-то избегавший общения со своим земляком Афанасьевым.
Ещё под нарами, в царящей там несусветной помойке – ворохах тряпья и мусора, два дня как завёлся беспризорник, сбежавший то ли из карцера, то ли из восьмой роты, где в основном и обитали такие, как он. Артём один раз прикормил его капустой, но больше не стал, однако беспризорник всё равно спал поближе к ним.