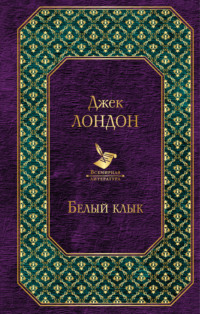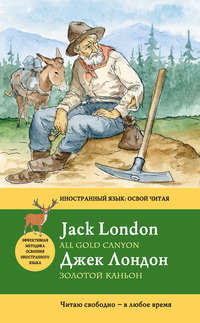Полная версия
Время-не-ждет
– У меня все марки вышли, – пожаловался Кернс. – Давайте на запись.
– Очень рад, что ты не сдаешься, – одобрительно заметил Макдональд.
– Погоди, я еще не решил. Тысячу я уже проставил. А теперь как?
– Теперь либо бросай карты, либо ставь три тысячи. А можешь и выше поднять, пожалуйста!
– Нет уж, спасибо! Это у тебя, может, четыре туза на руках, а у меня слабовато. – Кернс еще раз заглянул в свои карты. – Вот что я тебе скажу, Мак: я все-таки попытаю счастья – выложу три тысячи.
Он пометил сумму на клочке бумаги, подписался и положил бумажку на середину стола.
Слово было за Луи-французом. Все взоры обратились на него.
С минуту он дрожащими пальцами перебирал свои карты, потом произнес:
– Чует мое сердце, что ничего не выйдет. Черт с ним! – И со вздохом отбросил карты в сторону.
Тогда глаза всех присутствующих – свыше сотни пар – впились в Кэмбла.
– Ну, Джек, жалко мне тебя, я только отвечу, – сказал Кэмбл и выложил две тысячи, но ставки не перекрыл.
Теперь все взгляды устремились на Харниша; он нацарапал что-то на бумажке и пододвинул ее к котлу.
– Имейте в виду, – сказал он. – Здесь не воскресная школа и не благотворительное общество. Я отвечаю и добавляю еще тысячу. Слово за тобой, Мак. Как там твои четыре туза?
– За мной дело не станет, – ответил Макдональд. – Вот вам тысяча и ставлю еще одну. Ну, а ты, Джек? Надеешься на свое счастье?
– Очень даже надеюсь. – Кернс долго перебирал и разглядывал свои карты. – Из игры я не выйду. Но я хочу, чтобы вы знали: у меня имеется пароход «Белла», он стоит полных двадцать тысяч, ни на унцию меньше. В моей лавке на Шестидесятой Миле лежит товару на пять тысяч. И вам известно, что скоро доставят мою лесопилку. Она сейчас на озере Линдерман, и для нее уже вяжут плот. Ну как? В долг поверите?
– Поверим, – ответил Харниш. – Валяй ставь! Кстати, уж и я скажу: двадцать тысяч лежат здесь, у Мака в сейфе, и двадцать тысяч у меня под землей на Лосиной реке. Ты, Кэмбл, мой участок знаешь. Есть там на двадцать тысяч?
– Есть.
– Сколько надо ставить? – спросил Кернс.
– Две тысячи.
– Смотри, Джек, не зарывайся, этим дело не кончится, – предостерег его Харниш.
– Я в свое счастье верю. Так вот и вижу, как оно мне улыбается, – сказал Кернс и положил новую расписку на две тысячи поверх кучки бумажек.
– Счастья я никакого не вижу, зато вижу, что у меня неплохая карта, – заявил Кэмбл, пододвигая свою расписку, – но перекрывать не хочу.
– А я хочу, – сказал Харниш, принимаясь писать. – Отвечаю тысячу и подымаю на тысячу.
Тут Мадонна, которая стояла за стулом Элама Харниша, сделала то, на что не решился бы даже лучший друг игрока в покер. Протянув руку через его плечо, она подняла со стола лежавшие перед ним пять карт и заглянула в них, почти вплотную прижимая их к его груди. Она увидела, что у него три дамы и две восьмерки, но ни одна душа не могла бы догадаться, большая ли у него карта. Глаза всех партнеров так и сверлили ее, однако она ничем себя не выдала. Лицо Мадонны, словно высеченное из льда, было невозмутимо и выражало одно лишь равнодушие. Даже бровь у нее не шевельнулась, не дрогнули ноздри, не блеснули глаза. Она опять положила карты на стол рубашкой вверх, и взоры игроков нехотя отвернулись от ее лица, не прочтя на нем ничего.
Макдональд приветливо улыбнулся.
– Отвечаю тебе, Время-не-ждет, и перекрываю двумя тысячами. Как твое счастье, Джек?
– Все улыбается, Мак. Да так, что просто устоять не могу. Вот три тысячи. Чует мое сердце, что выиграю. И знаешь, что еще мое сердце чует? Время-не-ждет тоже ответит.
– Можешь не сомневаться, – подтвердил Харниш, после того как Кэмбл бросил свои карты. – Элам Харниш знает, что и когда ему нужно делать. Отвечаю две тысячи. А теперь будем прикупать.
Прикуп состоялся в гробовой тишине, прерываемой только тихими голосами играющих. В котле набралось уже тридцать четыре тысячи, а до конца игры еще было далеко. Мадонна чуть не вскрикнула, когда Харниш отбросил восьмерки и, оставив себе только трех дам, прикупил две карты. И на этот раз даже она не посмела заглянуть в его прикуп. Она знала, что и ее выдержке есть предел. Харниш тоже не поднял карты со стола.
– Тебе? – спросил Кернс Макдональда.
– С меня хватит, – последовал ответ.
– А ты подумай, может, все-таки дать карточку?
– Спасибо, не нуждаюсь.
Сам Кернс взял себе две карты, но не стал смотреть их. Карты Харниша тоже по-прежнему лежали на столе рубашкой вверх.
– Никогда не надо лезть вперед, когда у партнера готовая карта на руках, – медленно проговорил он, глядя на Макдональда. – Я – пас. За тобой слово, Мак.
Макдональд тщательно пересчитал свои карты, чтобы лишний раз удостовериться, что их пять, записал сумму на клочке бумаги, положил его в котел и сказал:
– Пять тысяч.
Кернс под огнем сотни глаз посмотрел свой прикуп, пересчитал три остальные карты, убедился, что всех карт у него пять, и взялся за карандаш.
– Отвечаю, Мак, – сказал он, – и набавлю только тысчонку, не то Время-не-ждет испугается.
Все взоры опять обратились на Харниша. Он тоже посмотрел прикуп и пересчитал карты.
– Отвечаю шесть тысяч и набавляю пять. Может, теперь ты, Джек, испугаешься?
– А я набавлю еще пять тысяч, хочу помочь тебе пугнуть Джека, – сказал Макдональд.
Голос его звучал хрипловато и напряженно, а уголок рта слегка дергался.
Кернс был бледен, и рука, в которой он сжимал карандаш, заметно дрожала. Но голос его не изменился.
– Набавляю пять тысяч, – сказал он.
Теперь центром внимания был Харниш. Выступивший у него на лбу пот поблескивал в свете керосиновых ламп. Смуглые щеки покрылись темным румянцем, черные глаза горели, ноздри раздувались – широкие ноздри, унаследованные от диких предков, которые выжили благодаря богатырской грудной клетке и могучим легким. Но голос у него не срывался, как у Макдональда, и рука, взявшаяся за карандаш, не дрожала, как у Кернса.
– Отвечаю десять тысяч, – сказал он. – Тебя я не боюсь, Мак. А вот счастье Джека меня беспокоит.
– Я все-таки наддам пять тысяч, – сказал Макдональд. – До прикупа я был сильнее всех, и сдается мне, и сейчас моя карта не будет бита.
– Бывает так, что счастье после прикупа вернее, чем до прикупа, – заметил Кернс. – Так и шепчет мне: «Наддай, Джек, наддай!» Придется поставить еще пять тысяч.
Харниш откинулся на спинку стула, поднял глаза к потолку и стал подсчитывать вслух:
– До прикупа я проставил девять тысяч, потом отвечал, потом набавлял… одиннадцать тысяч… потом еще… итого – тридцать тысяч. У меня остается еще десять тысяч. – Он выпрямился и посмотрел на Кернса. – Вот десять тысяч я и отвечу.
– Можешь набавить, – ответил Кернс. – Твои собаки пяти тысяч стоят.
– Ну, уж нет! Вы можете забрать весь мой песок и все, что есть в моей земле, но собак моих вам не видать. Я только отвечу.
Макдональд долго раздумывал. Никто не шевелился, никто не говорил даже шепотом. Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей. Никто даже не переступил с ноги на ногу. Все замерли в благоговейном молчании. Слышался только рев пламени в огромной печке, да из-за бревенчатой стены доносился приглушенный вой собак. Не каждый вечер на Юконе шла крупная игра, а такой игры еще не бывало за всю историю этого края. Наконец Макдональд заговорил:
– Если я проиграю, я могу только взять закладную под Тиволи.
Оба партнера кивнули в знак согласия.
– Тогда я тоже отвечу.
Макдональд положил на стол расписку на пять тысяч.
Ни один из игроков не потянулся за котлом, ни один не объявил своей карты. Все трое одновременно молча положили карты на стол; зрители бесшумно обступили их еще теснее, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть. Харниш открыл четырех дам и туза; Макдональд – четырех валетов и туза; Кернс – четырех королей и тройку. Он наклонился вперед и, весь дрожа, обеими руками сгреб котел и потащил его к себе.
Харниш выхватил своего туза и бросил его через стол на туза Макдональда.
– Вот из-за чего я лез, Мак. Я знал, что только короли могут побить мою карту. Так оно и вышло. – Потом он повернулся к Кэмблу. – А у тебя что было? – спросил он с искренним интересом.
– Неполный флеш, с обеих сторон открытый. Хорошая карта для прикупа.
– Еще бы! Мог быть флеш или даже ройял-флеш.
– Вот в том-то и дело, – с грустью сказал Кэмбл. – Потому я и проставил шесть тысяч.
– Вся беда в том, что только трое прикупали, – засмеялся Харниш. – А то я не подхватил бы четвертой крали. Ну теперь мне придется идти в погонщики к Билли Роулинсу и везти почту в Дайю. А сколько ты сорвал, Джек?
Кернс стал было подсчитывать выигрыш, но от волнения ничего не мог сообразить. Харниш потянул к себе груду марок и расписок, спокойно рассортировал их и быстро подсчитал итог.
– Сто двадцать семь тысяч, – объявил он. – Теперь, Джек, ты можешь все распродать и ехать домой.
Счастливый игрок, улыбаясь, кивнул головой, но не мог выговорить ни слова.
– Я поставил бы выпивку, – сказал Макдональд, – но только я здесь уже не хозяин.
– Неправда, – хрипло ответил Кернс, предварительно облизнув губы. – Отдашь долг, когда захочешь. Но выпивку поставлю я.
– Эй, налетайте, заказывайте, кому что, – победитель платит! – крикнул Элам Харниш, расталкивая толпу зрителей, и схватил Мадонну за руку. – Пошли танцевать! До утра еще далеко, а завтра мне катить в Дайю. Слушай, Роулинс, я согласен доставить почту, выезжаю в девять утра к Соленой Воде, ладно? Ну, идем, идем. Куда же это скрипач девался?
Глава третья
Это была ночь Элама Харниша. Он был душой кутежа, и буйное веселье било из него ключом и заражало всех. Он превзошел самого себя, и никто не хотел отстать от него. Что бы он ни придумал, все с увлечением подхватывали его затею, кроме тех, кто уже ничего не понимал и, горланя какую-то бессмыслицу, валился под стол. Но драк и пьяных скандалов не было. На Юконе хорошо знали, что, когда кутит Время-не-ждет, допускается только мирное веселье. Ссоры в такие дни запрещались. Раньше бывали стычки между подгулявшими гостями, но они на своей шкуре убедились, что такое истинный гнев, ибо Харниш укрощал скандалистов, как он один умел это делать. Он требовал, чтобы все смеялись и плясали, а кто не хочет – пусть отправляется домой.
Сам он был неутомим. Между двумя турами вальса он уплатил Кернсу двадцать тысяч золотым песком и передал ему свою заявку на Лосиной реке. Кроме того, он условился с Билли Роулинсом о доставке почты и сделал все необходимые приготовления. Он послал гонца разыскивать Каму – погонщика-индейца из племени Танана, который покинул далекое кочевье своих родичей ради службы белым пришельцам. Кама, высокий, худощавый, мускулистый, одетый в звериные шкуры, вошел в Тиволи со спокойным достоинством истого дикаря; не обращая внимания на шумевших вокруг него гуляк, он молча выслушал распоряжения Харниша.
– У-ум, – произнес Кама, когда тот кончил, и стал по пальцам перечислять полученные поручения. – Взять письма у Роулинса. Погрузить на нарты. Продовольствие до Селкерка. А в Селкерке много корму для собак?
– Много, Кама.
– У-ум. Привести сюда нарты к девяти. Захватить лыжи. Палатку не надо. А может, взять полог? Маленький?
– Не надо, – решительно заявил Харниш.
– Холодно будет.
– Мы пойдем налегке, понятно? И так уж будет много писем туда и много писем обратно. Ты сильный. Ничего, что холодно, что далеко.
– Ничего так ничего, – со вздохом пробормотал Кама. – Пусть холодно, все равно. Приду в девять.
Он повернулся и вышел, бесшумно ступая обутыми в мокасины ногами, невозмутимый, непроницаемый, не глядя по сторонам и ни с кем не прощаясь, – так же, как он вошел, не здороваясь и не встреченный приветствиями. Мадонна увела Харниша в уголок.
– Послушай, Время-не-ждет, – сказала она вполголоса, – ты продулся?
– В пух и прах.
– У меня восемь тысяч в сейфе Макдональда… – начала она.
Но Харниш не дал ей договорить. Почуяв опасность, он шарахнулся, как необъезженный жеребец.
– Пустяки, – сказал он. – Нищим пришел я в этот мир, нищим и уйду, и, можно сказать, с самого прихода не вылезал из нищеты. Идем вальс танцевать.
– Но ты послушай, – настаивала она. – Мои деньги зря лежат. Я одолжу их тебе… Ну, ссуду дам и в долю войду, – торопливо добавила она, заметив его настороженный взгляд.
– Я ни у кого ссуды не беру, – ответил он. – Я сам себя ссужаю, и, когда повезет, все мое. Спасибо тебе, дорогая. Премного благодарен. Вот свезу почту, и опять деньги будут.
– Элам… – прошептала она с нежным упреком.
Но он с умело разыгранной беспечностью проворно увлек ее в комнату для танцев, и они закружились в вальсе, а Мадонна думала о том, что хоть он и держит ее в объятиях, но сердце у него из железа и не поддается ни на какие ее уловки.
В шесть часов утра, пропьянствовав всю ночь, Харниш как ни в чем не бывало стоял у стойки и состязался в силе со всеми мужчинами подряд. Делалось это так: два противника становились лицом друг к другу по обе стороны угла, упершись правым локтем в стойку и переплетя пальцы правой руки; задача заключалась в том, чтобы прижать руку противника к стойке. Один за другим выходили мужчины против Харниша, но ни разу никому не удалось побить его; осрамились даже такие великаны, как Олаф Гендерсон и Луи-француз. Когда же они заявили, что Харниш берет не силой, а каким-то ему одному известным приемом, он вызвал их на новое соревнование.
– Эй, слушайте! – объявил он. – Вот что я сделаю: во-первых, я сейчас взвешу мой мешочек, а потом побьюсь об заклад на всю сумму, что после того, как вы подымете столько мешков с мукой, сколько осилите, я подкину еще два мешка и подыму всю махину.
– А ну, давай! – крикнул Луи-француз под одобрительный гул толпы.
– Стой! – закричал Олаф Гендерсон. – А я что же? Половина ставки моя!
В мешочке Харниша оказалось песку ровно на четыреста долларов, и он заключил пари на эту сумму с Олафом и Луи-французом. Со склада салуна принесли пятидесятифунтовые мешки с мукой. Сначала другие попробовали свои силы. Они становились на два стула, а мешки, связанные веревкой, лежали под ними на полу. Многим удавалось таким образом поднять четыреста или пятьсот фунтов, а кое-кто дотянул даже до шестисот. Потом оба великана выжали по семьсот фунтов. Луи-француз прибавил еще мешок и осилил семьсот пятьдесят фунтов. Олаф не отстал от него, но восемьсот ни тот, ни другой не могли выжать. Снова и снова брались они за веревку, пот лил с них ручьем, все кости трещали от усилий, – но хотя им и удавалось сдвинуть груз с места, все попытки оторвать его от пола были тщетны.
– Помяни мое слово, – сказал Харнишу Луи-француз, выпрямляясь и слезая со стульев. – На этот раз ты влип. Только человек из железа может это осилить. Еще сто фунтов накинешь? И десяти не накинешь, приятель.
Мешки развязали, притащили еще два; но тут вмешался Кернс:
– Не два, а один.
– Два! – крикнул кто-то. – Уговор был – два.
– Они ведь не выжали восемьсот фунтов, а только семьсот пятьдесят, – возразил Кернс.
Но Харниш, величественно махнув рукой, положил конец спорам:
– Чего вы всполошились? Эка важность – мешком больше, мешком меньше. Не выжму – так не выжму. Увязывайте.
Он влез на стулья, присел на корточки, потом медленно наклонился и взялся за веревку. Слегка изменив положение ног, он напряг мышцы, потянул мешки, снова отпустил, ища полного равновесия и наилучших точек опоры для своего тела.
Луи-француз, насмешливо глядя на его приготовления, крикнул:
– Жми, Время-не-ждет! Жми, как дьявол!
Харниш начал не спеша напрягать мускулы – на этот раз уже не примеряясь, а готовый к жиму, – пока не собрал все силы своего великолепно развитого тела; и вот едва заметно огромная груда мешков весом в девятьсот фунтов медленно и плавно отделилась от пола и закачалась, как маятник, между его ногами.
Олаф Гендерсон шумно выдохнул воздух. Мадонна, невольно до боли напрягшая мышцы, глубоко перевела дыхание. Луи-француз сказал смиренно и почтительно:
– Браво! Я просто младенец перед тобой. Ты настоящий мужчина.
Харниш бросил мешки, спрыгнул на пол и шагнул к стойке.
– Отвешивай! – крикнул он, кидая весовщику свой мешочек с золотом, и тот пересыпал в него на четыреста долларов песку из мешочков Гендерсона и Луи-француза.
– Идите все сюда! – обернулся Харниш к гостям. – Заказывайте выпивку! Платит победитель!
– Сегодня мой день! – кричал он десять минут спустя. – Я одинокий волк, волк-бродяга, и я пережил тридцать зим. Сегодня мне стукнуло тридцать лет, – сегодня мой праздник, и я любого положу на лопатки. А ну, подходите! Всех окуну в снег. Подходите, желторотые чечако[1], и вы, бывалые старики, – все получите крещение!
Гости гурьбой повалили на улицу. В Тиволи остались только официанты и пьяные, во все горло распевавшие песни. У Макдональда, видимо, мелькнула смутная мысль, что не мешало бы поддержать свое достоинство, – он подошел к Харнишу и протянул ему руку.
– Что-о? Ты первый? – засмеялся тот и схватил кабатчика за руку, словно здороваясь с ним.
– Нет, нет, – поспешил заверить Макдональд, – я просто хочу поздравить тебя с днем рождения. Конечно, ты можешь повалить меня в снег. Что я такое для человека, который поднимает девятьсот фунтов!
Макдональд весил сто восемьдесят фунтов, и Харниш только держал его за руку, но достаточно было одного внезапного рывка, чтобы он потерял равновесие и ткнулся носом в снег. В несколько мгновений Харниш одного за другим повалил с десяток мужчин, стоявших подле него. Всякое сопротивление было бесполезно. Он швырял их направо и налево, они кубарем летели в глубокий мягкий снег и оставались лежать в самых нелепых позах. Звезды едва мерцали, и вскоре Харнишу трудно стало разбираться, кто уже побывал в его руках, а кто нет, и, раньше чем хвататься за очередную жертву, он ощупывал ей плечи и спину, проверяя, запорошены ли они снегом.
– Крещеный или некрещеный? – спрашивал он каждого, протягивая свои грозные руки.
Одни лежали распростертые в снегу, другие, поднявшись на колени, с шутовской торжественностью посыпали себе голову снегом, заявляя, что обряд крещения совершен. Но пятеро еще стояли на ногах; это были люди, прорубавшие себе путь в дремучих лесах Запада, готовые потягаться с любым противником даже в день его рождения.
Эти люди прошли самую суровую школу кулачных расправ в бесчисленных ожесточенных стычках, знали цену крови и поту, лишениям и опасностям; и все же им не хватало одного свойства, которым природа щедро наделила Харниша: идеально налаженной связи между нервными центрами и мускулатурой. Ни особой премудрости, ни заслуги его тут не было. Таким он родился. Нервы Харниша быстрее посылали приказы, чем нервы его противников. Мысль, диктовавшая действия, работала быстрее, сами мышцы с молниеносной быстротой повиновались его воле. Таков он был от природы. Мускулы его действовали, как сильно взрывчатые вещества. Рычаги его тела работали безотказно, точно стальные створки капкана. И вдобавок ко всему он обладал сверхсилой, какая выпадает на долю одного смертного из миллиона, – той силой, которая исчисляется не объемом ее, а качеством и зависит от органического превосходства самого строения мышц. Так стремительны были его атаки, что, прежде чем противник мог опомниться и дать отпор, атака уже достигала цели. Но застать его самого врасплох никому не удавалось, и он всегда успевал отразить нападение или нанести сокрушительный контрудар.
– Зря вы тут стоите, – обратился Харниш к своим противникам. – Лучше ложитесь сразу в снег – и дело с концом. Вы могли бы одолеть меня в любой другой день, но только не нынче. Я же вам сказал: нынче мой день рождения, и потому лучше со мной не связывайтесь. Это Пат Хэнрехен так смотрит на меня, будто ему не терпится получить крещение? Ну, выходи, Пат.
Пат Хэнрехен, бывший боксер, состязавшийся без перчаток, известный драчун и задира, вышел вперед. Противники схватились, и прежде чем ирландец успел шевельнуться, он очутился в тисках могучего полунельсона и полетел головой вперед в сугроб. Джо Хайнс, бывший лесоруб, так грузно рухнул наземь, словно свалился с крыши двухэтажного дома; Харниш, повернувшись спиной к Джо, искусным приемом бросил его через бедро раньше, чем тот успел занять позицию, – по крайней мере так уверял Джо Хайнс.
Все это Харниш проделывал, не испытывая ни малейшей усталости. Он не изматывал себя долгим напряжением. Все происходило с быстротой молнии. Огромный запас сил, таившийся в его мощном теле, взрывался мгновенно и внезапно, а в следующую секунду его мышцы уже отдыхали. Док Уотсон, седобородый богатырь с никому не ведомым прошлым, выходивший победителем из любой драки, свалился в снег от первого толчка: не успел он подобраться, готовясь к прыжку, как Харниш обрушился на него так стремительно, что Уотсон упал навзничь. Тогда Олаф Гендерсон, в свою очередь, попытался застать Харниша врасплох и кинулся на него сбоку, пока тот стоял наклонившись, протягивая Уотсону руку, чтобы помочь ему подняться. Но Харниш, тотчас согнув колени, упал на руки, и Олаф, налетев на него, перекувырнулся и грохнулся оземь. Не дав ему опомниться, Харниш подскочил к нему, перевернул его на спину и стал усердно натирать ему снегом лицо и уши, засовывать снег пригоршнями за воротник.
– Силой я бы еще с тобой потягался, – пробормотал Олаф, вставая и отряхиваясь. – Но, черт тебя побери, такой хватки я еще не видел.
Последним из соперников был Луи-француз; наглядевшись на подвиги Харниша, он решил действовать осмотрительно. С минуту он примерялся и увертывался и только после этого схватился с ним; прошла еще минута, но ни один из противников не сумел добиться преимущества. И вот, когда зрители уже приготовились полюбоваться интересной борьбой, Харниш сделал едва приметное движение, привел в действие все рычаги и пружины своего тела и обрушил на противника свою богатырскую силу. Луи держался до тех пор, пока не захрустели суставы его могучего костяка, но все же, хоть и медленно, Харниш пригнул его к земле и положил на обе лопатки.
– Победитель платит! – закричал он, вскочив на ноги и первым врываясь в салун. – Вали, ребята, вали за мной!
Все выстроились в три ряда у длинной стойки, стряхивая иней с мокасин, – на дворе стоял шестидесятиградусный мороз[2]. Беттлз, один из самых отчаянных и бесшабашных старожилов Юкона, и тот перестал горланить песню про «целебный напиток» и, спотыкаясь, протиснулся к стойке, чтобы поздравить Харниша. Мало того – его вдруг обуяло желание сказать тост, и он заговорил громогласно и торжественно, как заправский оратор:
– Вот что я вам скажу: Время-не-ждет – мой закадычный друг, и я горжусь этим. Не раз мы с ним бывали на тропе, и я могу поручиться, что весь он, от мокасин до макушки, – червонное золото высшей пробы, черт бы побрал его паршивую шкуру! Пришел он в эту страну мальчишкой, на восемнадцатом году. В такие годы все вы были просто молокососами. Но только не он. Он сразу родился взрослым мужчиной. А в те времена, скажу я вам, мужчине нужно было постоять за себя. Тогда мы не знали такого баловства, какое сейчас завелось. – Беттлз прервал свою речь, чтобы по-медвежьи облапить Харниша за шею. – В доброе старое время, когда мы с ним пришли на Юкон, никто не выдавал нам похлебку и нигде нас не потчевали даром. Мы жгли костры там, где случалось подстрелить дичь, а по большей части кормили нас лососевые следы и заячьи хвосты.
Услышав дружный взрыв хохота, Беттлз понял, что оговорился, и, выпустив из своих объятий Харниша, устремил свирепый взор на толпу.
– Смейтесь, козлы безрогие, смейтесь! А я вам прямо в глаза скажу, что самые лучшие из вас недостойны завязать ремни его мокасин. Прав я или нет, Кэмбл? Прав я или нет, Мак? Время-не-ждет из старой гвардии, настоящий бывалый юконец. А в ту пору не было ни пароходов, ни факторий, и мы, грешные, надеялись только на лососевые хвосты и заячьи следы.
Оратор торжествующе посмотрел на своих слушателей, а те наградили его аплодисментами и стали требовать, чтобы Харниш тоже произнес речь. Харниш кивнул в знак согласия. Притащили стул и помогли ему вскарабкаться на него. Он был так же пьян, как и все в этой толпе – необузданной толпе в дикарском одеянии: на ногах – мокасины или моржовые эскимосские сапоги, на шее болтались рукавицы, а наушники торчали торчком, отчего меховые шапки напоминали крылатые шлемы норманнов. Черные глаза Харниша сверкали от выпитого вина, смуглые щеки потемнели. Его приветствовали восторженными криками и шумными изъявлениями чувств. Харниш был тронут почти до слез, невзирая на то, что многие его поклонники еле ворочали языком. Но так вели себя люди спокон веков – пировали, дрались, дурачились, – будь то в темной первобытной пещере, вокруг костра скваттеров, во дворцах императорского Рима, в горных твердынях баронов-разбойников, в современных многоэтажных отелях или в кабачках портовых кварталов. Таковы были и эти люди – строители империи в полярной ночи: хвастливые, хмельные, горластые, они спешили урвать несколько часов буйного веселья, чтобы хоть отчасти вознаградить себя за непрерывный героический труд. То были герои новой эпохи, и они ничем не отличались от героев минувших времен.