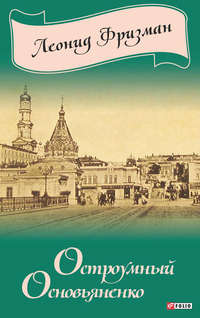Полная версия
В кругах литературоведов. Мемуарные очерки
Я прошу прощения за длинную цитату, но речь идет о тексте, который после единственной публикации в журнальном номере, вышедшем более шестидесяти лет назад, оказался и напрочь забыт, и трудно доступен. Между тем эти стихи не только написаны на высочайшем поэтическом уровне, но и исключительно важны для понимания мироощущения и эволюции Твардовского.
Покамест ты отца родногоНе проводил в последний путь,Еще ты вроде молодого,Хоть сорок лет и больше будь.Хоть и жена давно, и дети,Еще ты сын того отца,Еще не полностью в ответеЗа все на свете до конца.Хоть за тобою попеченьеИ о делах, но всякий разЕго совет, сужденье, мненьеТы как бы держишь про запас.Его в виду имеешь разум,Немалый опыт трудных лет.Но вот уйдет отец, и разом —Твоей той молодости нет.И тем верней, неотвратимейТы в новый возраст входишь вдруг,Что был он чтимый и любимыйОтец – наставник твой и друг.Так мы на мартовской неделе,Когда беда постигла нас,Мы все как будто постарелиВ жестокий этот день и час.В минуты памятные этиМы все на проводах отцаВдруг стали полностью в ответеЗа все на свете до конца…В безмолвной скорби той утратыСтояли мы, заполнив зал,Тот самый зал, где он когда-тоУ гроба Ленина стоял.Стоял поникший и спокойныйС рукою правой на груди.А эти годы, стройки, войны —Все это было впереди…<…>Да, мир не знал подобной властиОтца, любимого в семье.Да, это было наше счастье,Что с нами жил он на земле;Что распознали мы любовноЕго средь нас в своей судьбе…Мой сверстник, друг и брат мой кровный,Я – о тебе,Я – о себе[11].Пронзительная искренность этих стихов не вызывает сомнений: без нее они не получились бы такими. Но важно видеть другое: они зримо диссонировали с линией официальной пропаганды.
Уже через неделю-полторы после сталинских похорон имя вождя начало исчезать с газетных страниц. Передовые статьи обходились без его цитат. Было выведено из употребления неразделимое прежде словосочетание «сталинская конституция», его заменило другое: «советская конституция». А вскоре в постоянный обиход вошло выражение «культ личности». Хотя прямых указаний на то, какая личность имеется в виду, пока еще избегали, мало кто этого не понимал.
За год, минувший после смерти Сталина, генеральная линия официальной пропаганды выявила себя со всей полнотой и однозначностью. Десятилетиями вдалбливаемые догмы о том, что Сталин – источник всех наших побед, что только благодаря его мудрому руководству было отражено вторжение гитлеровских орд, что всем, что имеем, и самим своим существованием мы обязаны исключительно ему, следовало срочно и бесследно удалить из памяти. Процитированные строфы Твардовского шли вразрез с этой линией. Вновь подтвердилось, что он идет «всуперечь потоку».
Следующую фазу эволюции этой темы запечатлели гневно-иронические строфы о не названном по имени Сталине в «Теркине на том свете». Взору попавшего в потусторонний мир солдата предстает «отдел Особый»:
…Там – рядами по годамШли в строю незримомКолыма и Магадан,Воркута с Нарымом[12].Когда Теркин интересуется тем, «кто же все-таки за гробом / Управляет тем Особым», он получает ответ, способный потрясти глубиной и емкостью. Оказывается, та же личность, которая загубила миллионы невинных репрессированных, «в вечность их списала», несет ответственность и за бессчетные жертвы войны, заполнившие отдел, что «обозначен / Был армейскою звездой».
Чтобы увидеть истоки перемен, произошедших между 1960 и 1963 годами, нужно помнить, что на это время пришлось знаковое событие – состоялся XXII съезд КПСС, с трибуны которого о преступлениях Сталина было сказано не в закрытом и оставшемся неопубликованным докладе, а вслух, во многих выступлениях, с оглашением потрясших общество фактов.
«Новый мир» Твардовского до последних дней своего существования отстаивал правду, прозвучавшую на XXII съезде, что после отстранения от власти Хрущева сделало этот журнал лидером оппозиционных сил страны и объектом преследования со стороны властей. Брежневское руководство, насмерть перепуганное крупицами правды, успевшими просочиться в общественное сознание, всеми силами стремилось замолчать злодеяния Сталина, стереть их в народной памяти. Любые упоминания об ужасах коллективизации, организованном голоде, арестах миллионов невинных людей, выселении народов, ущербе, нанесенном биологии, кибернетике, стали запретными. И тогда Твардовский вновь, но несравненно более остро, чем прежде, разошелся с установками Кремля и создал поэму «По праву памяти», которая на два десятилетия стала достоянием самиздата.
Благодаря моей дружбе с Юрием Буртиным, о которой я в дальнейшем расскажу подробнее, я имел возможность прочесть эту поэму в 1969 году, когда она была написана. На моих глазах рождалась и статья Буртина «Вам из другого поколенья», напечатанная в 87-м в связи с одновременным появлением поэмы «По праву памяти» сразу в двух московских журналах: в «Новом мире» и «Знамени». Эта поэма запечатлела последний и окончательный взгляд Твардовского на Сталина. Вспомним, что в «За далью даль» главный укор адресован не Сталину, а нам, возносившим ему неумеренную и безудержную хвалу.
Не те ли все, что в чинном зале,И рта ему открыть не дав,Уже, вставая, восклицали:«Ура! Он снова будет прав…»?[13]Если он «всем заведовал, как бог», то виноваты в этом мы, которые его обожествили: «Кому пенять, что он таков?». В последней поэме поэт говорит об «отце народов» с горькой иронией, обличая его двуличие и коварство:
Да, он умел без оговорок,Внезапно – как уж припечет —Любой своих проступков ворохПеренести на чей-то счет;На чье-то вражье искаженьеТого, кто возвещал завет,На чье-то головокруженьеОт им предсказанных побед[14].Репрессии 30-х годов обрисованы совсем не теми красками, которые мы видели в поэме «За далью даль»:
И за одной чертой законаУже равняла их судьба:Сын кулака и сын наркома,Сын командарма иль попа…Клеймо с рожденья отмечалоМладенца вражеских кровей.И все, казалось, не хваталоСтране клейменых сыновей[15].Сталин и здесь назван богом, но это злобный бог, требующий нескончаемых жертв: «оставь отца и мать свою», «предай в пути родного брата / И друга лучшего тайком». В «За далью даль» звучала мысль, что бог оказался человеком, таким же, как все смертные, «что и в Кремле никто не вечен / И что всему выходит срок». В последней же поэме внимание приковано к другому: сын-то за отца, может быть, и не отвечает, но дети, признавшие отцом выродка, изверга, убийцу миллионов ни в чем не повинных людей, обожествившие его, одобрявшие его, а то и соучаствовавшие в его злодеяниях, не могут не нести своей доли ответственности. И заканчивается эта глава строками, беспощадными и к вождю, и к себе:
Давно отцами стали дети,Но за всеобщего отцаМы оказались все в ответеИ длится суд десятилетий,И не видать ему конца[16].Может быть, кто-нибудь упрекнет меня в том, что я превращаю мемуарный очерк в литературоведческую статью, неоправданно углубляясь в сравнение двух поэм Твардовского. Не могу с этим согласиться. Да, случилось так, что на предложение Твардовского написать в «Новый мир» что-нибудь на собственно современную тему я откликнулся лишь через несколько лет. Да, я тогда не мог знать, что за эти несколько лет Твардовский стал иным: что приглашал меня автор «За далью даль», а пришел я к автору «По праву памяти». Что Твардовский 1962 года одобрил замысел статьи о Пушкине и Польском восстании, а Твардовский 1968-го поддержал и пробивал в печать «Иронию истории» с ее откровенным осуждением Октябрьской революции, скудоумия ее организаторов и трагизма ее последствий.
Первым, с кем я поделился своим замыслом, был Владимир Яковлевич Лакшин. Вот ответ, который я от него получил:
Уважаемый товарищ Фризман!
Тема предложенной Вами статьи очень интересна. Конечно, вопрос о ее публикации зависит еще от многих условий – содержания, характера и тона изложения и т. и. Но в любом случае Вам следует прислать нам ее для ознакомления.
С уважением, В. Лакшин
27 ноября 1967 г.
Это письмо положило начало нашей дружбе, которая продолжалась до самой его смерти. Вскоре после скандала с «Иронией истории», о котором расскажу чуть ниже, я послал ему письмо с впечатлениями, вызванными его статьей о «Мастере и Маргарите», и кое-какими собственными размышлениями об этом романе. Он ответил:
Уважаемый Леонид Генрихович!
Вернувшись из отпуска, нашел Ваше письмо. Сердечное спасибо. Рад, что статья о «Мастере» пришлась Вам по душе. Ваши соображения относительно смерти Берлиоза остроумны и заслуживают внимания, хотя, быть может, сам автор и не рассчитывал на такое толкование этого эпизода. Ну, да и так бывает.
С искренним уважением, В. Лакшин
1 ноября 1968 г.
Когда в начале 1971 года редколлегию «Нового мира» разогнали, а Лакшина, так сказать, «трудоустроили» в журнале «Иностранная литература», он приглашал меня навещать его там. Запомнилась забавная формулировка этого приглашения: «поднимаетесь на такой-то этаж, входите в такую-то комнату и попадаете прямо ко мне в объятия». Я никогда не сотрудничал с «Иностранной литературой», и никаких редакционных дел у нас не было, а лишь чисто дружеское общение.
На отправленную ему «Жизнь лирического жанра» он откликнулся так: «Книгу я прочитал с интересом – много замечаний тонких и дельных, в особенности мне понравилась глава о Баратынском – и вообще Ваше коронное рассуждение о природе “объективного” и “субъективного” поэтического мироощущения, о том, что невзгода, погибшая любовь и проч. – для романтика только повод выразить огорчение всем погибельным несовершенствам мира. Это так и есть». А вскоре я получил от него монографию «Толстой и Чехов», присланную мне «с крепким дружеским рукопожатием».

В. Я. Лакшин
Из многого, что запомнилось в Лакшине, мне особенно дорог один эпизод, в котором высветилась его личность. Намного позднее, уже в пору горбачевской гласности, когда стало печататься многое, что прежде было запретным, его спросили: «Что вам больше всего хотелось бы написать?» – и он ответил: «Письма Короленко Луначарскому». Это может показаться мелочью, но те, кто помнит эти письма, согласятся, что в ответе Лакшина, как в капле воды, отразилась его политическая и этическая программа, можно сказать, вся его личность.
Прочтя и одобрив мою «Иронию истории», Лакшин свел меня с Юрием Григорьевичем Буртиным, который курировал в «Новом мире» отдел публицистики. Сказать, что этот человек стал моим другом, – значит сказать лишь малую часть правды. С первой встречи и до своей смерти он был не только одним из самых близких людей, но и единомышленником в самом определенном и точном значении этого слова.
Те его письма, которые я буду приводить в дальнейшем, не могут дать полного представления о мере нашей идейной близости – она сильнее всего проявлялась в личном общении, в том абсолютном доверии, которое мы питали друг к другу. Бывало, я приходил к нему домой, чтобы читать там книги Солженицына, не подлежавшие выносу, и он, уходя на работу, оставлял меня на весь день в своей квартире, сказав на прощание: «Вот кофе, хлеб, в холодильнике колбаса, яйца, вернусь вечером». Я прочел тогда не только «В круге первом», но и подержал в руках корректуру «Ракового корпуса», набранного для публикации в «Новом мире», но не выпущенного в свет.
Основные факты биографии Буртина и предыстория его появления в «Новом мире» стали мне известны намного позже. Он родился в 1932 году в семье сельского врача и учительницы. После окончания Ленинградского университета восемь лет работал учителем литературы в железнодорожной школе для взрослых в Костромской области, на станции Буй. Там при поддержке других учителей и учеников (рабочих и машинистов железной дороги) предпринял, вероятно, первую в СССР попытку выдвижения «альтернативного» кандидата на выборах в Верховный Совет СССР – поэта Александра Твардовского; за эту выходку (разумеется, пресеченную) был исключен из партии по обвинению в ревизионизме.
В 1965 году представил диссертацию о творчестве Твардовского, точнее, о его связи с советской историей и сознанием народа, однако диссертация не увидела свет – на ее предварительном обсуждении в Институте мировой литературы (ИМЛИ) Буртин поблагодарил Андрея Синявского, который к тому времени был уже арестован, и это поставило крест на возможности защиты, но послужило сближению Буртина с диссидентской средой.

Ю. Г. Буртин
Начиная с 1959 года печатался в «Новом мире», а в 67-м Твардовский пригласил его на работу в редакцию. Вплоть до разгрома журнала Буртин вел раздел «Политика и наука», являясь фактическим заведующим отделом публицистики и членом редколлегии. Формально это было невозможно, так как он был беспартийным, но он входил в тот узкий доверенный круг, который определял направление редакционной политики. Благодаря ему и еще нескольким таким, как он, «Новый мир» был тем, чем он был.
Вскоре после того, как мы с Буртиным начали готовить к печати, вернее сказать, к пробиванию в печать мою «Иронию истории», я стал регулярно бывать в небольшой комнате, в которой размещался отдел публицистики, и ощутил себя членом стихийно сложившегося коллектива единомышленников-оппозицио-неров. Люди, которые там встречались, как-то сразу становились вроде давними знакомыми, моментально возникала атмосфера доверительного общения. Впервые вступая в разговор, понимали друг друга с полуслова. Там я увидел публициста В. Кардина, историков А. Каждана и А. Некрича, литературоведа и писателя-сатирика 3. Паперного, генетика В. Эфроимсона и еще многих людей, которых сближал их образ мыслей.
Со времени, когда Твардовский предложил мне писать для «Нового мира», прошло шесть лет и многое в стране изменилось. Отстранение от власти Хрущева, свертывание критики культа личности, преследования первых диссидентов, ужесточение цензурного нажима на печать делали любую критику происходивших процессов и даже размышления над ними вслух все более трудными, и не оставалось другого средства довести свою мысль до читателя, как прибегать к аллюзиям, иносказаниям, намекам. Тогда-то мы и стали самым читающим между строк народом, и ни в одном журнале не вычитывали этим способом так много, как в «Новом мире».
Сидели мы с Буртиным бок о бок долгие часы над моей статьей, ставшей нашим общим делом, решая обычную по тем временам задачу: как оставить в тексте побольше правды и вместе с тем сделать ее «проходимой»? А ситуация с каждым месяцем становилась все хуже. В начале 1968 года чехословацкую компартию возглавил А. Дубчек. Наши сталинисты с возрастающей подозрительностью следили за Пражской весной, их бросала в дрожь та поддержка, которую встречала у демократически настроенных слоев населения нашей страны идея создания социализма с человеческим лицом, а тем более опасение, что такие кошмарные явления, как свободная печать или ограничение диктатуры партийно-административного аппарата, могут, чего доброго, пересечь чехословацко-советскую границу. А тут еще появился и стал ходить по рукам первый меморандум Сахарова, провидчески указавшего на край пропасти, к которому мы неуклонно сползали.
Чистили мы с Буртиным злосчастную рукопись, искали какие-то приемлемые прикрытия для крамольных идей, и наконец она ушла в набор, а в начале мая появилась и корректура. Статья намечалась в пятый, юбилейный, номер журнала – в мае 1968 года исполнялось 150 лет со дня рождения Маркса. Прошел май, за ним июнь и июль, а номер все не появлялся. Живя в Харькове, я с опозданием узнал, что с ним случилось.
Когда шли уже чистые листы, экземпляр журнала попал в ЦК, и там мою «Иронию истории» прочел Большой Начальник. Прочел и – что не всегда случается с начальниками – понял содержание прочитанного. И охватил Большого Начальника Большой Гнев. Кое-какие колоритные детали запечатлел в своем дневнике тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» А. И. Кондратович. «Вызвал Галанов. Вел разговор Беляев». Вердикт выглядел так: «У Фридмана[17] в его статье “Ирония истории” получается, что эта ирония распространяется и на социалистическую революцию». Листы со статьей оказались уже отпечатаны. «Когда Беляев зачем-то вышел, я позвонил Мише (М. Н. Хитрову. – Л.Ф.). Да, именно эти листы. Беляев ходил, конечно, к начальству получать указания. Вернулся. Я сказал ему, что лучше все-таки оставить. Он молчит. Я ему: “Тогда принимайте решение сами”. Он посмотрел на меня внимательно и сказал: “Пускайте под нож”»[18].
Естественно, все происходящее привлекало к себе напряженное внимание А.Т. Твардовского. 21 апреля 1968 года, изливая в своих «Рабочих тетрадях» негодование по поводу происходившего в стране, он сделал такую запись: «И все не то, как бы ни старались деятели, неуклюже напяливающие на себя мантию деятеля, уже сделавшего свое дело (“трагедия” и “фарс”), воображающие, что верят в себя, и требующие от мира, чтобы и тот воображал это, стремящиеся обмануть себя насчет своего собственного содержания». И продолжил ее словами: «Выше цитированные строки – по верстке статьи Фризмана “Ирония истории”, наверняка не пройдет, хотя вся на Марксе и Энгельсе. Но слишком уж очевиден объект “иронии” – отнести ее к одному Китаю невозможно»[19].
Запись от 15 июня: «Возвращается Кондратович от Беляева – Галанова. Шесть листов под нож? Беляев: под нож…
– Вы же сами виноваты, печатаете этакие (“аналогии” в статьях о Гитлере и в “Иронии истории”)»[20].
17 июня он отправил возмущенное письмо в ЦК КПСС, а на следующий день по памяти внес его в «Рабочие тетради». Задержание «Иронии истории» и других материалов, набранных для публикации в журнале, писал он, «ничем не мотивировано, кроме в высшей степени странных соображений, высказанных т. А. Беляевым устно т. Кондратовичу относительно возможности превратного истолкования этих публикаций читателем»[21].
Упоминает об этих событиях и Лакшин. Рассказывая о тяготах, пережитых журналом, он напомнил о том, «что № 5 за 1968 год вышел “тощим” – он потерял почти треть своего объема, 208 страниц вместо обычных 288. Зато шестой номер по настоянию редакции, желавшей возместить ущерб подписчикам, оказался “толстяком” – 368 страниц как бы восполняли недобор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, не бывало»[22].
Еще одна забавная деталь этой скандальной истории. Поскольку удаление моей статьи из уже отпечатанных номеров «Нового мира» производилось в спешке, из части тиража она была вырезана не полностью, и какое-то количество подписчиков получило экземпляры с примерно половиной моего текста. Это вызвало в ЦК новый взрыв ярости, крики об «идеологической диверсии» и тому подобное. Как рассказал мне Буртин, тогдашний ответственный секретарь редколлегии Хитров собрал коллекцию из трех номеров: номер с полным текстом моей статьи, каким он планировался к выпуску; номер без нее, каким его получило большинство подписчиков, и номер-уродец – с куском моей статьи.
Лакшин рассказывал мне, что и позднее цензоры, присматриваясь к подозрительным «новомирским» материалам, ворчали: «Что, опять ирония истории?» А кто-то из крупных партийных бонз даже сказал ему: «Вы должны быть нам благодарны за то, что мы остановили эту статью. Если бы она появилась в печати, вас бы уже ничто не спасло». Можно поверить: до разгрома «Нового мира» оставалось всего полтора года.
В кабинете Лакшина я единственный раз в жизни видел Твардовского. Это было весной или в начале лета 1969 года. Во время нашей беседы внезапно распахнулась дверь, и стремительно вошел, как бы ворвался человек, до того знакомый мне только по портретам. Я знал, что у редактора «Нового мира» такая манера: если ему был нужен кто-то из сотрудников, он не вызывал его к себе, а шел к нему.
Увидев, что Лакшин не один, он выразительным жестом показал: мол, зайду позже и сделал попытку уйти. Но Лакшин его удержал, усадил во второе кресло и представил меня словами: «Это автор “Иронии истории”». В глазах Твардовского мелькнул озорной огонек, он бросил какую-то насмешливую реплику, упомянул, что сорвать публикацию властям удалось в последний момент, когда значительная часть тиража была уже отпечатана. Зашел разговор о Пушкине и Польском восстании. Оказалось, что Твардовский хорошо помнил и об этом, он сам сопоставил оба сюжета, посетовал, что не удалось напечатать в «Новом мире» подборку откликов на «Слово о Пушкине», в которую было включено и мое письмо.
Вскоре после скандала с запрещением моей статьи я получил от Буртина такое письмо:
Дорогой Леонид Генрихович!
Я очень сожалею, что начало Вашего сотрудничества в «Новом мире» оказалось не совсем удачным. (Кстати, получили ли Вы 50% гонорара?) Но давайте будем рассматривать его именно как начало, надеясь на то, что продолжение будет счастливее.
Нет ли, в частности, у Вас желания что-то написать для нашего рецензионного раздела «Политика и наука» или для раздела «Коротко о книгах»? Подумайте, посмотрите и, если что-то Вас в этом плане заинтересует, напишите мне. Ежели окажетесь в Москве, заходите. Буду рад.
С искренним уважением, Ю. Буртин
При этом он, однако, предупредил меня, что если я хочу в дальнейшем писать для «Нового мира», то делать это лучше под псевдонимом. Фамилию мою, сказал он, запомнили хорошо, и то, что выйдет из-под моего пера, читать будут так, что ничего сказать не удастся. Так я и поступил.
Вскоре после вторжения в Чехословакию войск Варшавского пакта я отослал в «Новый мир» рецензию на книгу Е. Черняка о контрреволюционных интервенциях «Жандармы истории». Эта рецензия (она называлась «Походы бесславные и бесплодные») появилась в пятом номере журнала за 1970 год, когда расправа над «Новым миром» уже свершилась, и в журнале не было ни Твардовского, ни Буртина. Чехословацкая тема звучала в материале так прозрачно, что я по сей день ума не приложу, как он все же проник в печать. К тому же псевдоним, которым я подписал рецензию (Д. Александров), был сконструирован из имени свергнутого вдохновителя Пражской весны. Конечно, додуматься до этого читателю было мудрено, но не мог же я подписать рецензию «А. Дубчиков»!
Здесь я хочу передать слово Буртину, который дал такую характеристику этой статьи и обстоятельств ее появления, какую я никогда бы дать не сумел. Это было сделано в его «Письме в редакцию “Континента”»:
Давно уже приходила мне в голову мысль написать – в полумемуарном, в полуисследовательском роде – о публицистике «Нового мира» второй половины 60-х годов, к чему, по щедрости судьбы, я оказался причастен. При теперешнем историческом беспамятстве, на почве которого буйно цветет уже новая мифологизация нашей истории, это, пожалуй, не было бы лишним. Но, взятая в целом, это слишком большая тема, и нужен, по слову Твардовского, «запас покоя, чтоб ей отдаться без помех». Однако 25-летие Пражской весны побуждает положить на бумагу одно более локальное воспоминание. Адресую его журналу, который, предоставив свои страницы многим из бывших «новомирских» авторов (А. Солженицын, В. Гроссман, В. Некрасов, В. Войнович, Н. Коржавин, В. Корнилов и др.), возродил и развил в 70-е годы в условиях бесцензурной печати ту литературную традицию и те тенденции в публицистике, за которые подвергся разгрому журнал Твардовского. Тем более что именно в «Континенте» мы в былые годы читали о задавленной советскими танками Пражской весне то, что глубоко отвечало нашим собственным чувствам и мыслям.
Быть может, кто-нибудь еще сумеет в полной мере передать, как мы, люди 60-х годов, воспринимали август 68-го, вторжение советских войск в Чехословакию. Это была наша боль, наш стыд, наше отчаяние. Имена А. Дубчека, О. Черника, Й. Смрковского заслонили для нас в ту пору самые лучшие отечественные имена; переснятая откуда-то фотография Яна Палаха, мальчика-самосожженца из Праги, висела тогда во многих московских домах как образ нашей вины и орудие самоистязания. Но ни единым словом нельзя было даже намекнуть на эти чувства в открытой печати, симулировавшей «единодушное одобрение» преступной акции брежневского руководства и столь же единодушную ненависть к «проискам антисоветских сил». Статья в «Новом мире», о которой я хочу рассказать, была в этом смысле едва ли не единственным исключением. Она – выразительный пример того, как в условиях жесточайшей цензуры, достигшей в ту пору верха изощренности, журнал Твардовского умудрялся говорить своему многотысячному читателю очень и очень многое из того, что было нужно сказать.
Одним из главных приемов эзопова языка тогдашней «новомирской» публицистики была аллюзия: острая современная тема обсуждалась на каком-нибудь отдаленном, политически нейтральном материале, камуфлировалась реалиями иных эпох и стран. И хотя цензура в свою очередь тоже научилась распознавать этот прием, и в числе ее запретительных знаков появилась оригинальная формула «неконтролируемый подтекст», все же ей далеко не всегда удавалось угнаться за изобретательностью злокозненного журнала. Сильно мешало ей то обстоятельство, что значительную часть своих вылазок публицисты «Нового мира» совершали в невиннейшем жанре рецензии, пересказывая и цитируя какую-то недавно вышедшую и, следовательно, должным образом залитованную книгу. Ведь не запрещать же одобрительное изложение того, что сами только что разрешили! Так было и в данном случае. Первая «пристрелка» к теме состоялась в рецензии-коротышке за подписью Э.Р. (инициалы кандидата технических наук Э. М. Рабиновича) на книгу польского автора Зенона Косидовского «Когда солнце было богом» (№ 4, 1969). В качестве центрального рецензент извлек из книги рассказ «об одном из первых в истории политических реформаторов Урукагине, который сверг власть жрецов и провел в Лагаше (Месопотамия. – Ю.Б.) реформы в пользу трудящихся». Хотя Урукагина и не думал посягать на установившийся социальный строй, его «либеральные реформы вызвали среди рабовладельческой аристократии остальных шумерских городов сильнейшую тревогу». В результате царь города Уммы «внезапно напал на Лагаш, опустошил его, а Урукагину, вероятно, взял в плен и убил» – прямая параллель с подвигами «рабовладельческой аристократии» Москвы, Берлина, Варшавы, Будапешта и Бухареста, внезапно напавшей на «либеральную» Прагу и не остановившейся перед арестом законных руководителей суверенного государства, судьба которых некоторое время была неизвестна.