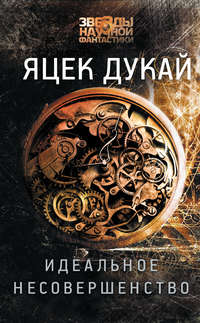Полная версия
Иные песни
Садясь в виктику, Иероним скрыл лицо в тени капюшона.
Ихмет Зайдар ждал, как и обещал, под памятником Александра на Рынке Мира; несмотря на толпу, нашли его быстро. Бросив на Фарада короткий взгляд, перс сразу начал на окском:
– Три вещи. Во-первых, эта охота. Воистину интересное дело, покажу тебе, что они привозят с юга. Пожалуй, я и вправду не потрачу времени зря, раньше или позже наверняка бы поехал и сам. Я слышал, что в городе Даниэль из Орма и старая Люцинда; не знаю, только направляются туда или уже вернулись. Во-вторых, хороший совет для эстлоса Ньютэ: пажуба. Новое зелье. В Золотых Королевствах уже вытесняет гашиш. Идет на север с караванами специй, скоро доберется из Европы в Гердон. В-третьих, она. Мы должны решить: здесь или случайность на охоте.
Зайдар тоже сменил европейское платье. В закрывавшем его от стоп до головы черном джульбабе, с бамбуковой тростью в руках, он выглядел как один из Пилигримов к Камню. Впрочем, возможно, и правда собирался посетить Аль-Кабу. Ведь он ни разу не объявлял в открытую о своем участии в охоте с эстле Амитаче.
Перс вскочил в экипаж и, усевшись слева от господина Бербелека, хлопнул виктикариев бамбуком по спинам. Что-то крикнул на пахлави. Те двинулись, поворачивая на Пелусийский Тракт, к югу. Солнце брызнуло им в глаза. Иероним поглубже натянул капюшон.
– Как я слышал, – продолжил он на окском, – теперь уже оно крутится само по себе. Прибывают нимроды, всё славнейшие, искушенные сплетнями об охоте на тварей, о которых мир не слыхивал, едут на юг, к ним присоединяются пресыщенные аристократы, платя щедро, поскольку где ж наилучшая охота, как не в антосе столь великих охотников? Ну и всякий сезон отправляются поход за походом, джурджи, как ее здесь называют, уже нельзя хоть раз не принять в ней участие, дружеская форма охватила город, страну, возникают первые песни и пьесы. Все знают, что это – лишь форма, но хотят ей поддаться. Поедешь? Только заяви, что едешь, – и сразу получишь предложения от желающих.
– А ты, эстлос? Не собираешься? А-а, ну да, если достанешь ее здесь…
Так ли он говорит о своих жертвах? – подумал Иероним. Стоя с дымящимся кераунетом над окровавленным трупом. «Достал ее».
– Почему ты сам этого не сделаешь, – пробормотал, – если это так важно для тебя?
Нимрод уставился голубыми глазами на господина Бербелека. Видит ли он лицо собеседника в тени капюшона? Бамбук постукивал по борту виктики.
– А ты хочешь этого, эстлос?
Господин Бербелек не отвел взгляд, и перс, в конце концов, опустил глаза.
– Она моя, – сказал господин Бербелек.
– Небо слышало, земля слышала, – покорно согласился нимрод.
Господин Бербелек считал удары сердца. Двадцать четыре, двадцать пять, хорошо. Раз уж единожды сел мне на руку – отчего бы и не приручить этого ястреба?
– Теперь скажи, чего не сказал.
Ихмет глядел на кончик посоха, подскакивавший в ритме оборотов высоких колес виктики.
– Арджер, восемьдесят первый, Рука Тора. У тебя была лишь сотня. Я не видел их вот уже много лет, но это не значит, что мне не важна их судьба, ты должен это понять, эстлос. Брат, вся его семья. Не уцелели бы. Ты вывел всех, до последнего жителя; а не обязан был, корабли потонули, Балтика была у Тора. Ты спас всех. И если теперь Чернокнижник тянется к тебе… Как же я могу остаться в бездействии? Эстлос.
Невероятно, удивился Иероним, макинально оправляя полы кируфы. На те тысячи смертельных врагов, которых создает себе человек, сжигая города и вырезая армии, на десятки тысяч их – на самом деле он получает при случае одного-двух друзей!..
Тем временем виктика выехала на Пелусийский мост, наискось пересекающий Мареотийское озеро. Здесь раскинулся Внутренний порт, перестроенный во времена предыдущей Гипатии, когда в очередной раз расширили и углубили каналы, соединяющие озеро с Нилом и Средиземным морем. Мареотида всегда была соленым озером, но теперь стала еще одним морским заливом. Александрия разрасталась вокруг нее, на ней и над ней. С моста они видели первые аэргароны, дворцы, висевшие над водами Мареотиды, выстроенные на восточном берегу, у которого, согласно закону, могли плавать только ладьи аристократов. Фарад тотчас объяснил, какой аэргарон кому принадлежит, и кто нынче проигрывает в этом архитектурном состязании. Справа же тянулась ломаная линия каменной торговой набережной, здесь причаливали фелуки и галеры, корабли морские и трансокеаники, настоящий лес мачт, подъемников, такелажа. Фарад указал Иерониму склады Африканской Компании, гигантские бункеры и пакгаузы.
С моста съехали на улицы Верхней Александрии. Здесь уже и речи не было о старых зданиях, тысячелетних святынях и стенах, помнящих времена Первого Кратистоса. Жилые дома поднимались на семь, десять, пятнадцать этажей, нередко соединяясь друг с другом над улицами, что, с одной стороны, гарантировало пешеходам благословенную тень, с другой же – создавало иллюзию, что въезжаешь в одно огромное здание, в грязный лабиринт гигантских коридоров, в коем можно лишь потеряться. В этом без малого замкнутом пространстве какофония человеческих и звериных голосов, экзотической музыки и столь же экзотического пения почти оглушала. Господин Бербелек поднял голову. Небо мелькало над ними в немногочисленных просветах между лестницами, соединявшими террасы. Там, на верхних уровнях и на плоских крышах домов, там, под солнцем Навуходоносора, шла другая, параллельная жизнь: пешеходы, виктики, верблюды, зебры, хумии, кони, мулы, козы, ларьки и лавочки, магазинчики и мастерские. Только вот мухи, москиты и заржи клубились одинаково и в тени, и на солнце. Господин Бербелек нетерпеливыми движениями отгонял от лица наглых насекомых; те тотчас возвращались.
С невидимого минарета муэдзин завел азан на дневную молитву.
Поворачивали столько раз, что, когда наконец остановились, Иероним не мог разобраться даже со сторонами света. Зайдар соскочил первым, без стука отворил дверь и вошел внутрь. Виктика стояла в темном, слепом проулке, дом – с решетками на окнах, на стенах свежая побелка. Господин Бербелек втянул воздух носом и сразу пожалел: воняло ошеломляюще. Над дверью была вывеска, но без надписи по-гречески.
– Демиургос Харшин, сын Зебедея, сына Ходжи, таксидермист, – прочитал Фарад. Титул демиургоса на вывеске не означал ничего: всякий второй ремесленник провозглашал себя без малого текнитесом.
Они вошли внутрь.
– Боги, – вздохнул Фарад, осматриваясь в комнате и зажимая нос.
Несмотря на многочисленные окна, большую часть света давали поднятые высоко под потолок лампы; окна заслонены грудами звериных останков, выделанных и невыделанных шкур, скелетов и разрозненных костей, прозрачных и непрозрачных сосудов с законсервированными фрагментами тел, еще более загадочными ящичками и закрытыми сундучками. Все это слоями громоздилось под каждой стеной, некогда, верно, стояло на полках; может, на этих стеллажах и крылся некий порядок, и все же глаза замечали лишь хаос.
Господин Бербелек вышел на середину зала, где на параллельно стоящих столах представлены были во всей мерзостной своей славе не завершенные еще творения мастера-таксидермиста. Дальше, в проходах во внутренние комнаты, стояли творения готовые. В сумме в сей миг на Иеронима таращилось с сотню мертвых гляделок – а что с теми зверьми, которые глаз пока не имели, что таращились сухими глазницами?.. Господин Бербелек осторожно прикоснулся к раскрытой пасти приготовившегося к прыжку хищника.
– Это кто? Гиена?
– А-а-а, нет, нет, эстлос. – Горбатый старичок полунегрской морфы пришаркал к господину Бербелеку, прервав негромкий разговор с Зайдаром. – Это специальный заказ, вызов для демиургоса. – Усмехаясь, он похлопал хищника по голому, то есть лишенному кожи хребту. – Таких существ нет, я их создаю, складываю из мертвых частей.
Откинув белый капюшон, господин Бербелек осмотрел зал.
– А как тогда узнать, какие из зверей настоящие? Я не знаток местной фауны. Это, например, – это будет птица, верно?
– О, эстлос, в том-то и вопрос, в том-то и вопрос! – Харшин принялся энергично кивать лысой головой, дергая при этом себя за реденькую седую бороденку. Иероним только сейчас понял, что у таксидермиста левый глаз закрыт бельмом, а тело его искривлено не только из-за горба: частичный паралич поразил его левую руку, вздергивая локоть под неестественным углом. И какова природа безумия этого человека? Если, даже живя в калокагатической короне Навуходоносора, он подвержен таким деформациям… По крайней мере его греческий остается кристально чист.
– Вопрос, над которым я раздумывал долгие годы, прежде чем вообще попытался достичь совершенства в моей текне. Какие звери выглядят «истинными», в каких мы в состоянии поверить, а какие существовать никогда не могли бы? За простотой всякой красоты сокрыта великая философия, к которой нужно дойти, как доходили софистесы, с усилием, по трупам мыслей. Ведь именно здесь, в Александрии, проведены первые секции и вивисекции человека; традиция длинна и богата. Полагаешь, эстлос, что таксидермия суть примитивная текне прихорашивания трупов? Ха!
Харшин быстро проковылял в угол, где выгреб из-под завалов мусора оправленную в кожу книгу. Господин Бербелек использовал возникшую паузу, чтобы вопросительно взглянуть на Ихмета. Перс пожал плечами.
Горбун сунул книгу под нос Иерониму. «Περι φυσεως», «Καθαρµοι», прочитал господин Бербелек.
– Эмпедокл из Акраганта! – выкрикнул таксидермист, будто священник, начинающий инвокацию. – Не Александр, но он был первым истинным кратистосом! Воскрешал мертвых, управлял ветрами, его аура выжигала болезни из целых стран, никто не мог не поддаться убеждению, когда внимал его словам. Воистину, Эмпедокл пребывал меж ними яко бессмертный бог, а не яко смертный человек. Называли его чернокнижником. Ха! Он сошел в вулкан, но пирос оказался слабее его морфы, пламя не сумело уничтожить его тело. Эмпедокл из Акраганта за век до Аристотеля познал законы природы, четыре элемента, четыре корня, ризомата, и филия, и нейкос, непрестанно соединяющие ее и разделяющие, вечный балаган и перетекание из формы в форму, от соединения к соединению, едино, что между мертвым, что между живым. И вот что он говорил: в начале не было Формы и Цели, но лишь смешение всего со всем, свободный хаос: только головы, только руки, только рога, только пальцы, только волосы, только копыта. После из них возникли все возможные и невозможные комбинации: медведь с крыльями стрекозы, три головы – и никакого туловища, нога и ухо, рогатые змеи, ладони с жабрами, птицы с тигриными башками, мышцы без желудков, мышцы без вен, мышцы без костей, тела без конца и начала. Но большинство этих созданий не могло выжить или могло, но другие справлялись лучше и истребляли первых. Так что остались лишь самые отважные или те, кто обладал органами наиболее приспособленными. Размножаясь, они передавали свою Форму потомкам. И что же должно делать таксидермисту, стоящему над этим холодным хаосом тел и выбирающему, яко Бог, образ нового, неизвестного дотоле идеала? Я должен узреть в своей голове всю предысторию сего зверя, увидеть, как он живет, как охотится, какие у него враги, как он размножается, и, коли смогу со всем этим совладать – будет се знак, что все получилось достаточно правдиво. Даже наихудшему текнитесу флоры или фауны не приходится сего делать, когда он придумывает новый вид, изменяет потенцию нерожденных, неразвитых растений и зверей согласно своей Форме, растворяет их своей аурой, притягивает их к себе – потихоньку, поколение за поколением – он знает: то, что родится, будет более совершенным, но он не в силах выморфировать невозможное. Я, я – с величайшим трудом отыскиваю возможное в потопе невозможного. Это требует особого способа мышления; мысль тоже может обезуметь. Но спроси любого в Александрии: нет никого лучше Харшина, сына Зебедея! – Старик оскалил на господина Бербелека остатки кривых зубов. Здоровой рукой он все похлопывал по спине искусственного зверя. – Ты ведь поверил в него, верно, эстлос? Он настолько же истинен, как гиена. Называю его ройпусом.
– Мхм, верно, я подумал, что это некий неизвестный мне зверь. Господин Зайдар —
– Ах, да-да, уже веду!
Старик бросил книгу под стену и кивнул гостям, чтобы шли за ним. Не оглядываясь, он ковылял тесным, погруженным в полумрак коридором в задней части мастерской. И не переставал говорить:
– И вот я оказался перед такой же проблемой, токмо теперь решение – не в моих руках, не я здесь решаю, привозят сие ко мне и жаждут обессмертить в форме самой истинной, так, как оно жило, но я не могу себе представить, как оно могло жить, какова была его истинная форма, как возможна его жизнь, пытаюсь мысленно увидеть его предков, историю, но это невозможно, невозможно, такой формы нет, она распадается – как говорит Эмпедокл: головы без тел, глаза без голов, зрачки без глаз. Может, и правда, что они изменяются во время пути на север до неузнаваемости, что их не должно ввозить в сердце антоса Навуходоносора, но ведь, скорее, он бы их исправил, оздоровил посмертно, хотя даже это не имеет смысла, антос ни одного кратистоса не бывает столь силен, не в этом здесь дело, я не знаю, в чем дело, не могу, это невозможно.
Бормоча так, горбун отворил боковую дверь, и они вошли во вторую мастерскую. На трех отдельных столах стояли, объятые проволочными каркасами, три звериных чучела в разной стадии завершенности.
Так, взглянув на них сперва, подумал господин Бербелек, поскольку был уже наперед сориентирован словами Зайдара и Харшина на звериные формы; но после третьего удара сердца пришло понимание: какие же это звери, они не являются и не были зверьми. Господин Бербелек не знал, чем это могло быть.
Слева стоял темный куст спутанных вен и сухожилий, без крови, без костей, хаос вывернутых на желтый свет внутренних органов – но что это были за органы, в какое тело упакованы, в каком облике? Ни верха, ни низа, ни хребта, ни боков, ни головы, ни хвоста – только тесное сплетение темных вен и сухожилий, что не соединяются вместе ни в какой из частей организма, кончающихся и начинающихся в пустоте.
На столе прямо перед господином Бербелеком висел между проволоками красный, будто младенческая кровь, скелет гигантской бабочки. Конечно же, у бабочек нет костей. Но глаз видит, разум называет. Будь бы еще у этой «бабочки» голова – но ее не было, с обеих сторон ее туловище венчали прозрачные баллоны тугой оболочки, наполовину наполненные некой маслянистой жидкостью. Левое крыло «бабочки», вернее, кости левого крыла – двукратно больше костей крыла правого.
На столе справа проволока скрепляла конечности большой обезьяны, конечности и башку. Без туловища.
– Говорят, что именно так она выглядела, – ответил таксидермист на вопросительный взгляд господина Бербелека. – Что внутри был лишь зеленый туман. И из этого тумана – лапы, ноги… И якобы, пока возвращались в Александрию, туман осел и испарился. И что мне с этим делать? – развел беспомощно руками демиургос, а левый локоть подскочил выше плеча.
Ихмет Зайдар подошел к небабочке, медленно провел ногтем по баллонам осклизлой оболочки.
– Что ж, пули их берут, – проворчал перс.
После чего криво усмехнулся господину Бербелеку, будто уже полностью освободившись из-под его Формы.
– Ну и как? Не поохотишься, эстлос?
* * *Назавтра, в Dies Lunae, 28 Априлиса, господин Бербелек навестил Александрийскую Библиотеку. Фарада отпустил еще с утра. Никто не видел, как Иероним вынимает из-под двойного дна своего дорожного кофра потрепанную книжку в черной обложке и прячет в глубоком кармане кируфы.
Мусейон, основанный Александром в шестидесятый день рождения по образу афинского Ликея его учителя и второго отца, Аристотеля, первоначально состоял из алтарей, посвященных Музам (со временем превращенных в святыни самых разных богов), садов, где под открытым небом проводили занятия (со временем поглощенных Садами Парефены), бестиария (также поглощенного Садами) и основанной самим Аристотелем библиотеки. Библиотека, финансируемая и правительственной казной, не скупилась на физические исследования и поиски софии, а еще оказалась чрезвычайно полезна бюрократическому центру Александрийской Империи, каковым быстро сделался город. Вскоре же она стала независимой, разросшись куда сильнее намерений ее создателя. Нынче, спустя почти две тысячи лет непрерывного собирательства, копирования, переводов и архивации книг и любых других материальных носителей человеческой мысли, Великая Библиотека в одной только Александрии занимала более двадцати строений, где размещалось несколько сотен миллионов томов; а ведь существовали и филиалы Библиотеки в странах бывшей Империи. Лишь Пергамская Библиотека времен подъема Селевкидитов могла с ней сравниться.
Для человека с улицы, захотевшего бы воспользоваться этой сокровищницей знания, подходящим путем был путь через Серапеум. Святыня Сераписа стала первой из аннексированных растущей Библиотекой. Она все еще оставалась местом культа бога плодородия и смерти – хотя первенство здесь удерживала канобская святыня, славящаяся многочисленными исцелениями, – но прежде всего исполняла роль публичного входа в Библиотеку. Библиотекари и жрецы за века выработали кодекс мирного сосуществования, коим обе стороны оставались довольны.
Виктика господина Бербелека переехала мост над Мареотийским озером, свернула с Пелусийского тракта налево и, погрузившись в уличную толчею, застряла посреди юго-западного квартала Старой Александрии. Иероним заплатил виктикарию, после чего, набросив на голову капюшон, нырнул в толпу пешеходов. По примеру Зайдара он приобрел бамбуковую трость, так называемую рикту – та служила главным образом, чтобы тыкать прочих прохожих в ребра, бить по икрам и защищаться от чужих рикт. Аристократы по определению не перемещались по городу пешком и без сопровождения слуг.
К Серапеуму он не мог не попасть, тот был виден издалека. Дело даже не в том, что само здание было огромным – а было, – но стояло оно на огромной платформе, вознесенной над городом. Господин Бербелек, взбираясь, считал ступени лестницы. Сто шестьдесят три. В центре платформы возвышалось святилище, окруженное мраморной колоннадой. Не было ни дверей, ни стражи, по крайней мере, Иероним ее не заметил; войти мог всякий. За колоннадой, в тенистом преддверье с искрящейся потолочной мозаикой, изображавшей Солнце, открывался Большой Зал святыни, со статуей Сераписа в центре. Не первая статуя работы Бриаксиса, выполненная по личному заказу Александра, – ту уничтожили во время Второго Пифагорийского Восстания. Ее заменили фигурой, перенесенной из канобского Серапеума. Бородатый бог сидел, раскинув руки – под одной присел двуглавый пес, вторая опиралась на массивный скептрон, – и был столь велик, что руки его дотягивались до противоположных стен. Стены же покрывал орнамент из золота, серебра и бронзы; сам бог был изготовлен из золота, серебра, олова, рубии и меди, сапфиров, гематитов, изумрудов и топазов. Высоко на одной из стен было маленькое оконце, отворяемое в день восхваления, когда в святилище вносилось Живое Солнце; через оконце тогда падал узкий солнечный луч и светлым поцелуем ложился на уста бога. Само Живое Солнце возносилось на высоту его губ и там повисало в воздухе, между раскрытыми ладонями бога. Когда вчера проезжали мимо святыни, Фарад услужливо объяснил господину Бербелеку, что в руки Сераписа встроены мощные магниты. Иероним жалел, что не узрит уже восхваления в невежестве – как и должно бы чтить богов.
За статуей, по обеим сторонам, отворялись двери, ведшие в боковые нефы и дальше, в подземелья, непрерывно растущим лабиринтом хранилищ, доходящих до главного здания Библиотеки. Под правым предплечьем Сераписа находился стол пожертвований для святыни, под левым – стол пожертвований для Библиотеки. Дары, конечно же, были добровольными, и размеры их – любыми, но Фарад в своем неудержимом словотоке успел объяснить господину Бербелеку и эту традицию.
Иероним повернул направо, сунул руку во внутренний карман кируфы и положил на стол пять зерновых талантов. Служитель Библиотеки поднял взгляд от книги пожертвований.
Господин Бербелек оперся о край стола рукой с родовым перстнем на безымянном пальце.
– Эстлос Иероним Бербелек из Острога ищет мудрости в пристанище Муз, – сказал он по-гречески.
Служитель кивнул одному из нагих невольников, сидевших на корточках у стены. Раб подскочил к нему; служитель что-то прошептал тому на ухо. Дулос быстрым шагом удалился в глубь бокового нефа.
– Можешь отдохнуть, эстлос.
Господин Бербелек уселся на мраморную скамью за спиной Сераписа. Руки положил на рикту, уперев ее в пол между стопами. Лицо его скрывал белый капюшон; железный перстень с Саранчой был единственным видимым знаком, его удостоверяющим.
– Эстлос?
Он поднял голову. Призванная библиотекарь без сомнения была родовитой александрийкой – если судить по ее медной коже, груди классической формы, черным волосам и прямому узком носу. Длинная юбка высоко на талии сколота пряжкой с геммой Библиотеки.
Женщина провела его в восточный неф, где они уселись за один из низких мраморных столов, заваленный кипами книг. Два библиотекаря работали в глубине помещения, тихо переговариваясь над разложенными бумагами. Было это святилище тени, прохлады и тишины; лампы давали лишь столько света, сколько хватало для чтения.
Библиотекарь угостила Иеронима мёдорином из наполненной фруктами миски. Он поблагодарил.
– Береника, – представилась она. – Чем могу вам помочь?
Он вынул книгу. Береника протянула руки. С чуть заметным колебанием он отдал ей том.
Она раскрыла его, перелистнула несколько страниц и вопросительно взглянула на господина Бербелека.
– Греческий, окский, гэльский, вистульский, готский, московский или латинский перевод. Есть у вас какой-нибудь из них? Ведь точно есть.
Береника в задумчивости положила закрытую книгу себе на колени – грязная чернота на мягкой белизне – сплела поверху ладони – теперь он заметил, что на больших пальцах она носит одинаковые кольца, – и чуть склонила голову. Оба прятали лица: она – за завесой волос, он – в тени капюшона.
– Я хотела бы узнать, как ты ею завладел, эстлос.
– У вас есть ее перевод или нет?
– Ох, полагаю, есть.
– И?
– Как? – повторила. – Эстлос?
– А в чем дело? Это какой-то редкий экземпляр?
– И впрямь не знаешь —
– Разве я пришел бы сюда и спрашивал бы —
– Ну да. Да. – Некоторое время она молчала. – Собственно, мне нужно сообщить об этом главным.
– О чем, во имя богов? По крайней мере скажите мне, что это за книга! Что это за язык! Что в ней описано! Ведь ты знаешь.
– Знаю, знаю, нам известны такие книги.
То, как она это произнесла – интонация, с какой покинуло ее губы слово «такие», – открыло в сознании Иеронима цепочку быстрых ассоциаций. Александрийская Библиотека – заведение теоретически независимое, но оно находится в землях Гипатии, в антосе Навуходоносора. Береника, будучи родовитой александрийкой, носит в себе все блага и проклятия этой Формы.
Господин Бербелек отбросил капюшон. Глядя на женщину, легко сжал ее плечо. Она вздрогнула.
– Можешь мне ответить, – сказал. – Должна.
Та меканически кивнула.
– «Свет госпожи нашей», скорее всего первопечать, – быстро начала библиотекарь. – Язык Лабиринта, одного из храмовых алфавитов Кафтора, который не используют вот уже тысячи лет. Когда после Пятой Войны Кратистосов и Изгнания Иллеи Коллотропийской появились лунные культы, они восприняли ту традицию и стали использовать этот заново воссозданный язык в качестве своеобразного шифра. Письма и книги начали кружить по всей Европе и Александрийской Африке. Сразу по Изгнании кратистосы оставались исключительно чутки, давили на владык, всех схваченных последователей Госпожи приговаривали к смерти. Минуло уже несколько сотен лет, а обладание подобной книжкой все еще рассматривается как отягчающее обстоятельство под антосом большинства кратистосов. Тут, под антосом Навуходоносора, – тоже; особенно тут. Ты должен знать, эстлос: Потния некогда владела этими землями: от Пиренеев до Садары и Аксума. У нас, в Библиотеке, есть эти книги, поскольку у нас есть все, но мы не изучаем их, и никто извне не обладает к ним доступом.
Проклятая Магдалена Леес, подумал господин Бербелек. Только этого не хватало. Если Шулима тоже в этом замешана…
Он сжал руку Береники; раз уже поддалась, не откажет и сейчас.
– Отдай.
Но она вскочила, освободилась от захвата, отступила от стола. Книгу прижала к груди (грязно-черное на светлой бронзе).
– Думаю… думаю, что теперь ты уйдешь, эстлос.
Вот и все тебе возвращение великого стратегоса, – мысленно вздохнул Иероним, снова натягивая на голову капюшон. Если уж библиотекарь – даже напуганная, так легко сбегает из-под моей руки. Другое дело, воистину ли я бросил на весы морфу стратегоса, ведь я не перерезал бы ей горла, это не был приказ, она никогда не приносила мне присягу. Ты не кратистос, Иероним, не король, не аристократ чистой Формы. Детская фантазия Авеля легла на твое сознание. Чернокнижник съел твое сердце, забудь о той жизни.