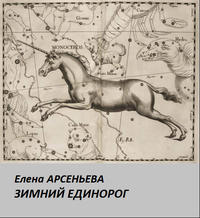Полная версия
Компромат на Ватикан
Этот парень держался особняком, хотя жаждущие отправки в Москву русские уже не то чтобы подружились, а почти сроднились. Женщины болтали о детях и мужьях, косметике и тряпках, мужчины осторожно прощупывали деловые связи, пара-тройка туристических малышей носилась туда-сюда по залу ожидания…
Парень тем временем на очень недурном французском заговорил с маленькой точеной брюнеткой, представительницей «Эр Франс». А потом обернулся к соотечественникам.
– Господа, – произнес он вроде бы негромко, однако его почему-то все сразу услышали и доверчиво повернулись к нему, – оказывается, над Москвой, покинув Европу, завис колоссальный грозовой фронт. Но переживать не о чем. Компания «Эр Франс» обязана, во-первых, устроить всех на ночь, причем если до места проезда предстоит добираться, то пассажирам оплатят и проезд, пусть даже и на такси, туда и обратно. Только нужно взять у водителя фактюр – то есть квитанцию. Также всех накормят ужином и завтраком.
В толпе пассажиров пронесся радостный шумок. Однако светловолосый поднял руку, призывая к тишине:
– Этот грозовой фронт, о котором я говорил, нельзя преодолеть, но можно облететь. Здесь и сейчас совершил посадку самолет «Люфтганзы», который направляется в Нижний Новгород. На борту есть свободные места. А среди нас есть люди, которые намерены были через Москву добираться в Нижний. К примеру, я, вот эта девушка… – Он в упор взглянул на Тоню, и она почему-то растерялась от улыбки, которая блеснула в светлых прищуренных глазах. – Ну и кто-то еще, наверное? А возможно, некоторые не захотят остаться в Париже и пожелают добраться до Москвы через Нижний? Разницу в сумме берет на себя «Эр Франс». Вылет через два часа, мы будем на месте рано утром, учитывая время в пути и разницу во времени…
Один из пассажиров, судя по выговору, истинный нижегородец, решительно вынул из кармана паспорт и билет:
– Где менять-то?
Тоня машинально последовала за ним. А больше никто не пожелал переоформлять билеты.
Что? Лететь через Жмеринку в Европу? Упустить возможность переспать в хорошем отеле, отведав шведского стола? Вместо этого очутиться в этом «Нижнем Горьком»?! Нет уж! Все хотели только в Москву, в Москву, в Москву, словно чеховские три сестры!
Тоня уже подала кассирше документы – и вдруг насторожилась.
Откуда этот светловолосый парень вообще знает, что ей надо не в Москву, а в Нижний? Откуда?! Вдруг он – из подручных того опасного смуглого типа? Небось убийца смекнул, что Тоня его заприметила-таки в Нанте, потом взяла на заметку здесь – и решил обезопаситься, послав вместе с нею в Нижний подсадную утку?
Или коршуна. А в роли глупой утки выступит Тоня. Она расслабится, заснет – сил-то больше нет, целый день на ногах, да в каком напряжении! – а коршун ка-ак тюкнет ее втихаря своим клювом…
Не лучше ли не менять шило на мыло, а терпеливо ждать отправки рейса в Москву?
Ну да. А ночью в парижском отеле, куда отвезут всех, в том числе и смуглого, под покровом темноты он…
Тоня лихорадочно огляделась. Нет, опасного типа не видать. Может, пошел в какое-нибудь аэропортовское бистро? Может, он даже и не знает про внезапно выпавший из гиперпространства рейс в Нижний? Может, удастся от него улизнуть? А светловолосый, очень может статься, существует сам по себе, а вовсе не является пособником врага? Ну не может, не может ведь так обалденно улыбаться плохой человек…
Впрочем, насчет улыбок обольщаться не стоит! Вспомнить хотя бы Сережу, учителя танцев. Когда он дает себе труд взглянуть на самую неуклюжую из своих учениц (Тоню Ладейникову, стало быть) и улыбнуться ей – из чисто педагогических побуждений, конечно, чтобы приободрить! – у Тони начинается натуральная дрожь в коленках. Невероятные Сережины глаза смотрят, чудится, в самую душу. Ох уж этот его взгляд: темный – глаза-то цвета горького шоколада! – и в то же время свет излучающий. Чудится, какие-то сверкающие, звенящие нити протягиваются в эти мгновения между ним и Тоней, у нее сладко сжимается сердце, и приходится силой напоминать себе о Катьке, о Витале, о том, сколько лет вообще пролегло между Сережей и ею… да между ними препятствий больше, чем между Ромео и Джульеттой. К тому же пусть бог спасет женщину, которая бросит свою жизнь к ногам этого юного Казановы! Вот он переводит взор на другую трепещущую дурочку, и ты видишь, что в глазах его тот же светлый пламень, и та же нежность, и тот же тайный, сокровенный смысл, и понимаешь, что Сергей просто не умеет смотреть на женщин иначе. Казанова – он и есть Казанова!
Тоня тряхнула головой, отгоняя долгоиграющее Сережино очарование, и задумалась: к чему это все вдруг вспомнилось? Ах да, она размышляла, верить ли улыбке светловолосого парня.
Однозначно – нет. Пусть он даже и чист, как ангел, а все-таки доверяй, но проверяй. В самолете надо сесть от него подальше и умудриться не спать. А в аэропорту сразу хватать такси и мчаться к Витале. Может, загадочный попутчик утратит Тонин след и отвяжется?
О, вот отличная идея! Надо обеспечить свою безопасность в Нижнем тем, что позвонить Витале. Пусть встречает ее, желательно прихватив с собой Катьку. И они поедут ни на каком не на такси, а на рейсовом автобусе, в массе иных-прочих людей. Этому парню будет к Тоне не подойти. Авось и обойдется все, как оно обходилось до сих пор.
И Тоня отправилась обеспечивать свою безопасность – звонить бывшему мужу. Неподалеку от автоматов она снова увидела опасного испанца-итальянца, который прижимал к уху мобильник и что-то тараторил.
Тоню он вроде бы не заметил.
Вот и чудесно!
Франция, Париж, наши дни
– Отец мой…
– Джироламо, я заждался твоего звонка!
– Она благополучно улетела.
– Полагаешь, она что-то заподозрила… относительно тебя?
– Не знаю, не уверен, однако мне лучше пока не попадаться ей на глаза.
– А ты связался с нашими людьми?
– Конечно. Ее встретят и будут сопровождать до тех пор, пока не приеду я и не подвернется удобный случай.
– То есть это будет выглядеть как обыкновенное загадочное убийство.
– Обыкновенное загадочное? Любопытное сочетание слов, отец мой. Позволю сказать, вы сами себе противоречите. Или одно, или другое. Кроме того, карта все-таки придаст случившемуся оттенок немалой необыкновенности!
– Конечно, конечно, однако это будет выглядеть не столь эффектно, как если бы случилось в стенах храма или в виду картин.
– Иногда приходится идти на некие уступки судьбе, это ваши слова. Если б вы только знали, как тяжело мне оттого, что не я сам свершу предначертание небес, что придется передоверить это другому. Конечно, мой человек получил строжайшие инструкции: дождаться меня и только тогда, в моем присутствии… И все же мне бы хотелось лично отомстить за Лео.
– За Лео?! Боже мой, о чем ты говоришь? Наша жизнь и смерть – не более чем средство к достижению высшей цели – отмщению за страшное поругание нашей веры и нашего великого предка. Забудь о Лео. Думай о дочери этого проклятого рода. А также о ее дочери. Эти двое должны быть уничтожены, а потом можно будет подумать и о других.
– О других? Сколько же их?
– Пока поступили сведения о двоих.
– Насколько я помню, вы упоминали только об одном?
– Его имя тебе известно.
– Да… И я до сих пор не могу прийти в себя от этого странного, рокового совпадения… А другой?
– Чуть позднее я отправлю тебе электронной почтой его имя и адрес. Уничтожение этого мальчишки вы должны провести с особенным блеском!
– А его родители? Кто из них является… И как поступить с ними?
– Никак. Они в стороне от этого дела. Судя по тому, что нам удалось узнать, мальчишка – приемный сын людей, никогда и ничего не знавших о том, какое проклятие они навлекли на себя своей невольной добротой к брошенному ребенку. Его родной отец погиб по собственной глупости – утонул, когда ребенка еще не было на свете. Месть Господня настигла этого человека без нашего участия, ведь именно он принадлежал к проклятому роду. Мать умерла при родах, словно чувствовала страшную угрозу, которая исходит от него. След ее утерян, к тому же она нимало не интересует нас. Мы не убийцы, ты должен помнить это сам и внушить твоим помощникам. Мы не убийцы, мы – мстители.
– Иногда я размышляю о том, чем и как мы будем жить, когда свершится наша месть и картина будет уничтожена, а все потомки проклятого рода – убиты…
– Уничтожение картины уже близко, но ты напрасно думаешь, что мы так скоро искореним заразу. За два столетия эти люди расплодились, как тараканы, они проросли в самых разных краях огромной России, словно ядовитые травы, которые ассимилировались с окружением, приняли облик мирной, безвредной растительности. Наша цель – отыскать их всех и обезвредить. Уж не знаю, разочаруют тебя мои слова или вдохновят, однако бороться с этими тварями придется еще и твоим потомкам, и потомкам твоих потомков.
– Для этого их надо иметь.
– Ты прав. Вернешься – и мы поговорим о твоем будущем. Но сейчас нас больше интересует настоящее. Каковы твои планы?
– Я поеду в Париж, остановлюсь в каком-нибудь отеле, попытаюсь уснуть. Есть очень большая вероятность, что завтра в 10.50 утра мы все же улетим в Москву. Оттуда я сразу направлюсь в Нижний Новгород. Этот ураган подарил ей, самое малое, двое суток жизни.
– На все воля Божья, сын мой. И на это – тоже его вышняя воля.
Из дневника Федора Ромадина, 1779 год
10 декабря
Скажи мне кто-нибудь прежде, что декабрь может быть именно таков, с солнцем и невянущими цветами, я бы в жизни не поверил. Эти погоды, этот климат внушает… сам не знаю что, какое чувство. Наверное, преклонение пред красотой. Рим, Рим, Рим… Какой божественный, легкий и солнечный здесь воздух. Знаю теперь: нигде мне не было и не будет так хорошо, как в Риме, остаться здесь навечно – значит навечно остаться молодым, вечно пребывать в этом ожидании счастья!
Я готов вечно ходить по улицам Вечного города и вглядываться в женские лица, надеясь увидеть то единственное, снова встретиться взглядом с теми глазами – темными и в то же время такими светлыми, чей взор опутывает, словно нежно звенящие нити…
Федор, эти строки тебе придется вымарать. Как думаешь, что скажет батюшка, когда прочтет их?!. Эва, хватил: вчерашнего дня искать! Опамятуйся, друг мой.
Был нынче в храме Святого Петра. Уже настал час prima sera – так в Риме называют вечернюю пору от семи до девяти часов, – уже тьма поползла меж колонн, а я все сидел и думал о том, что громада этого великолепного собора изначально должна была подавлять все вокруг, все прежние, античные развалины, подобно тому как христианский мир подавил античный. Меня бросает в дрожь лихорадочную, стоит лишь осознать: вот в этом тихом углу Форума, у источника нимфы Ютурны, поили своих лошадей Диоскуры! В том же Форуме прочел надпись на передней стене алтаря: «Посвящается богам подземного царства» – и невольно поежился, словно воды Стикса начали медленно струиться передо мной… Думал я также, что жизнь в античные времена была проще, и два человека, мужчина и женщина, чьи пути вдруг пересеклись, могли приблизиться друг к другу, не будучи скованными путами, кои наложены на душу церковью и приличиями. Сейчас римлянки, говорят, даже поклонников своих могут видеть лишь мельком, встречаются по воскресеньям в храмах, на мессе, чтобы обменяться страстными взорами…
Досидел я в храме до того, что послышался звон ключей привратника, который весьма изумился, увидав меня. Все молящиеся и праздные посетители уже давно ушли, пусто было кругом.
Неужто я ждал, что придет она? И непременно ради того, чтобы тайно встретиться со мною!
Как могут звать ее? Италианские женские имена прекрасны. Лючия, Лаура, Метильда, Беатриче, Леонтина, Симонетта, Джилья, Марианна… Сам не знаю, какое выбрал бы для нее!..
Глупец. Лучше поразмышляй о том, что древние скульптуры, оказывается, укладывали на своих статуях волосы Минервы восемнадцатью способами! Не успокоюсь, пока не зарисую в свой альбом их все.
11 декабря… впрочем, уже давно 12-е
Происшествие, нынче со мною случившееся, не могу иначе назвать, как произволением Господним. Душою моею враз владеют и смятение пред игрою случая, и страх почти священный пред лицом Провидения, кое столь твердо и беспрекословно указало мне на бессмысленность и даже преступность моих тайных мечтаний.
Я был в Колизее. Пришел туда еще днем, укрывшись в верхнем уголке этих огромных развалин. Некогда здесь убивали друг друга гладиаторы на потеху властителям мира, сидевшим на трибунах, от которых ныне остались бесформенные развалины. Потом императоры предали мученической смерти тысячи христиан – все на той же арене. В память об этом папа Бенедикт XIV воздвиг вокруг нее четырнадцать маленьких ораторий с изображением страстей Господних. Только благодаря этому Колизей не был окончательно и бесповоротно разрушен, и можно сидеть в моем тихом уголке, испытывая величайшее наслаждение, какое только способны доставить человеку воспоминания о том, что вершилось с ним самим и человечеством вообще.
Я пробыл в Колизее до ночи.
Луна светила необычайно ярко! Я понял, что, не пройдя по Риму в полнолуние, нельзя представить себе, как он прекрасен. Все мелкое, суетное поглощено огромными чередующимися волнами света и тени – только грандиозное величаво открыто взору…
Неожиданно для себя я очутился на Пьяцца Навона, пустой в сей час. Не стоит пояснять, что площадь сия с некоторых пор – излюбленное мое место в Риме. Я сидел возле фонтана, где впервые увидел ее, когда высокий человек в плаще, чуть пригнувшись и опасливо на меня оглянувшись, вдруг прошел мимо и скрылся в одном из переулков, впадающих в площадь, словно ручей – в озеро.
«Кто сей? – подумал я, оцепенело, почти сонно следя игру лунного света в вечных струях фонтана. – Тать нощной, идущий на богопротивное дело? Или счастливый влюбленный, который сейчас встретится с владычицей своего сердца и сорвет с ее уст долгожданное признание, а может быть, и поцелуй?»
Вдруг странное нетерпение овладело мною. Я соскочил с влажного парапета и крадучись вошел в тот же проулок, в котором канул незнакомец.
Силуэт его виден был у высокой решетчатой ограды, опоясывавшей один из домов. Послышался чуть уловимый звон, и я не сразу понял, что незнакомец стучит по ограде каким-то металлическим предметом, может быть, монеткой. Стук был не простой, а, конечно же, условный: один длинный и два коротких. Медленно и быстро, быстро! Потом снова – медленно и быстро, быстро!
И тут я увидел женскую фигуру, выскользнувшую из-под древесной сени и легко, почти невесомо подбежавшую к ограде с другой стороны.
Когда в последний раз так билось мое сердце? Не в тот ли незабвенный день, когда мандолина слепого музыканта соперничала со звоном струй фонтанов Пьяцца Навона?.. Меня тотчас пронзило двумя равно острыми, но в то же время противоположными чувствами: счастьем и горем.
Я был счастлив оттого, что нашел ее. Я был вне себя от горя оттого, что ее обнимали руки другого мужчины!
Кованой решетки меж этими двумя, чудилось, не существовало. Удивительным казалось, что ограда не рухнула, таким пылким было объятие, которое я принужден оказался наблюдать. В первое мгновение захотелось броситься прочь, зажав уши и зажмурясь, не видеть их прильнувших друг к другу тел, не слышать томных вздохов и этих бесконечно повторяющихся:
– Ti amo!
– Ti odoro![8]
– Антонелла!
– Серджио!
Однако я не мог сдвинуться с места, скованный ревностью – и странным восторгом.
Антонелла… Ее зовут Антонелла. Сколько раз пытался я угадать ее имя!..
– Я ждала тебя раньше. Теодолинда давно спит. Где ж был ты?
– Ну, я…
В его заминке мне почудилась насмешка судьбы. Этот неведомый Серджио опоздал на свидание, увлекшись, может быть, другой, тогда как я отдал бы жизнь, чтобы хоть на миг оказаться рядом с недоступной для меня Антонеллой!
– Нет, не говори. – Ее ладонь прижалась к его губам и была тотчас покрыта поцелуями.
Господи, я видел каждое их движение так отчетливо, словно все вокруг освещало солнце, а не луна! Или это был свет любви, струившийся из необыкновенных глаз Антонеллы и озаряющий все вокруг?
– Нет, не говори. Я не хочу принуждать тебя лгать. Ты был у… него?
Голос ее дрогнул. Так дрожит голос у женщины, если она с трудом сдерживает слезы. Вот когда я пожалел, что еще не перенял обычая италианцев носить при себе для всякого случая кинжал! С каким наслаждением я вонзил бы его в грудь ветреного Серджио, не ведающего своего счастия!
– Антонелла, умоляю тебя… Твои слезы разрывают мне сердце! Этот человек мой духовный отец. Ты же знаешь, что моя мать, умирая, поручила меня ему. Я ему обязан всем, всем. Даже встречей с тобою! Ты вспомни: ведь я впервые увидал тебя на мессе, которую служил отец Филиппо. И с тех пор…
– И с тех пор он понял, что я стою на пути к тому будущему, кое уготовано тебе по воле твоей матери и твоего духовного отца. Думаешь, я не знаю, что он оговаривает меня пред тобою?!
В голосе прекрасной девушки звенело исступление, а в голосе Серджио – негодование:
– Неправда! Эта неправда! Ревность застит тебе разум, Антонелла. Никогда отец мой не позволил ни единого грубого слова о тебе. Он благословляет мою любовь к тебе, как все, что дорого мне, как мои картины и офорты. Да знаешь ли, что он сказал? Он хочет подарить мне все офорты Пиранези[9], собранные им за многие годы. Он хочет, чтобы они украсили стены моего дома… нашего с тобой дома!
– Я не понимаю. Нашего дома?
– Да! Отец Филиппо сказал сегодня, что понял свою ошибку. Я еще не готов жить в мире только лишь духовных радостей, земная суть моя довлеет надо мною. И он смирился с этим. Он готов благословить наш союз!
– Нет, я не верю. Почему вдруг?.. Что произошло?!
– Отец Филиппо сказал, что нынче ночью ему было видение. Он отпустит меня – если я сам этого пожелаю. Он еще сказал, что напоследок откроет мне некую тайну, которую заповедал ему…
Юноша не договорил. Мне почудилось, будто некий сгусток тьмы вдруг отделился от непроглядного скопления теней в конце проулка и набросился на Серджио.
Через мгновение, проморгавшись от изумления, я понял, что это были люди. Четверо в масках!
Антонелла испустила крик, но в ту же минуту чья-то грубая рука с такой силой оттолкнула ее от решетки, что девушка упала наземь и осталась недвижима и безгласна.
Кто сей негодяй, посмевший причинить ей боль, быть может, лишивший ее жизни?! Коли так, и он не проживет лишнего мгновения!
Я бросился в драку, вспомнив, как ходили на дворовых кончанские мужики у нас в Красивом, как бились стенка на стенку, как я стаивал то в одной, то в другой стенке, дабы испытать удары двух первейших в округе кулачных бойцов: батюшкина повара Силуяна и кузнеца Пахома. Бывал я ими бит неоднократно, однако же и от них успел кое-чему научиться, Пахом даже сказал мне о прошлый год, потирая ушибленное мною крутое плечо и болезненно морщась:
– Ну ты силен, молодой! Повезло мне, что не в глаз вдарил, не то ослепнуть бы мне в одночасье! Однако же помни: когда правой бьешь, левой не позабывай прикрываться. Так и подмывало меня влепить тебе в зубы, пока ты размахивался, да пожалел я тебя: ну кому ты щербатым нужен будешь, а, Федор Ильич?
Что скрывать: уроки великодушного Пахома были мною в ту ночь позабыты. Не о защите думал я, когда вломился в драку с напором медведя, поднятого среди зимы из берлоги и проворно стряхивающего со своих боков наглых охотничьих псов!
Потомки древних римлян оказались на диво мелки доблестью. Впрочем, они и не были готовы к столь яростному и единодушному отпору. Не стану скрывать: Серджио, вырвавшись из рук супротивника и уложив его мастерским тычком под горло, отчего тот захрипел и смирно прилег под оградою, держался геройски. Он даже выхватил стилет, который, правда, был тут же вышиблен из его рук и со звоном отлетел куда-то в сторону, но продолжал драться врукопашную. Он не наносил ударов зубодробительных, зато причинял разбойникам чувствительную боль.
Я уложил одного и другого из тех, кто, не разобрав, откуда ветер дует, ринулись на меня в горячке боя, а потом повернулся к своему невольному сподвижнику. И вовремя, не то ему туго пришлось бы. Тот самый злодей, коего Серджио посылал отдохнуть под оградою, успел очухаться, подняться на ноги и изготовиться к броску. В лунном свете сверкнуло лезвие, чудилось, впрыгнувшее из его рукава, но тут я вступил в схватку.
Напрасно презирал я потомков римлян! Кинжал либо стилет перелетел в левую руку этого задиры, а правой он принялся бить меня по чем ни попадя. Дважды кулаки наши встретились в воздухе, и диво, что мы не раздробили друг другу костяшки пальцев. Мои, во всяком случае, все раскровавлены и ноют весьма чувствительно до сих пор. От души надеюсь, что и ему была причинена боль не меньшая, а то и большая!
В конце концов мне надоело махаться с ним, всякую минуту ожидая, что его кинжал будет пущен в ход. Я врезал злодею в живот… противник согнулся вдвое, однако не упал, а резво кинулся в глубину проулка, хриплым, сдавленным голосом выкрикивая проклятия, которые мне ни малого вреда не причинили, однако его поверженные противники восприняли их как призыв к отступлению. Они кое-как поднялись и кинулись наутек.
Мы с Серджио порывались их преследовать, но не могли прежде не взглянуть на Антонеллу, которая уже пришла в себя и взывала нежным голоском о помощи к святой Мадонне, поскольку в такую глухую пору некого было больше молить о наказании злодеев.
Увидев, что Серджио невредим (разорванная одежда и всклокоченные волоса в счет не идут), она едва не обезумела от радости и принялась на все лады изъявлять свою любовь к нему. Серджио не отставал от нее в своей пылкости. Глядя на этих двух детей, цепляющихся друг за друга, я едва не облился слезами – умиления и зависти враз. Но тут влюбленные оторвались друг от друга и обратили на меня равно восторженные взоры и восклицания.
Матушка Пресвятая Богородица! Чего мне только не привелось выслушать! Особенно усердствовал Серджио, который с одного взгляда распознал во мне умелого драчуна. Впрочем, и я называл его бойцом доблестным и стойким. Спросил, кто могли быть негодяи, которых мы только что разогнали, но не получил ответа. При этом дивные очи Антонеллы, кои были устремлены на меня с таким выражением, что я ощущал себя не просто человеком хорошим, но отличным, самым лучшим, первейшим в мире героем – небось даже почище Александра Македонского и Ганнибала! – померкли. Она явно хотела что-то сказать, но удержалась лишь в последний миг. Впрочем, Серджио (да и я, немало слышавший из их беседы) понял, что имела в виду красавица.
– Ты не права! – пылко возопил Серджио. – Отец Филиппо не мог иметь отношения к этой предательской заварушке. Ведь разбойники стремились причинить вред прежде всего мне, а он никогда не смог бы этого сделать, поскольку любит меня, как родного сына!
Антонелла на миг потупилась, признавая свое поражение, но затем вновь воздела взор и принялась благодарить меня с той непосредственной нежностию, коя в устах женщины любой другой национальности казалась бы почти бесстыдной, однако у римлянки воспринимается как самое естественное проявление чувств.
– Знайте же, – сказала она мне с мрачной решимостью, – что ежели бы мой возлюбленный погиб, я бы немедленно наложила на себя руки, и адский пламень не напугал бы меня!
Я пробормотал какие-то общие фразы, думая при этом только об одном: ах, кабы мне такую любовь! Да я заложил бы душу врагу рода человеческого за то, чтобы оказаться на месте Серджио!
Однако немота сковала уста мои. Чудилось, сражаясь плечом к плечу с молодым римлянином против его недругов, я принял на себя некие моральные обязательства, побуждающие меня накрепко запереть сердце и уста. Они оба, и Антонелла и Серджио, видели во мне токмо благородного защитника, поборателя разбойников. Ну как я мог явиться пред ними в образе ином, открыть чувства свои, которые этим прекраснодушным детям показались бы гнусными и даже кощунственными?!
Словом, я молчал, как рыба, как пень, как мертвец, лишь изредка делая на устах улыбку, и не удивлюсь, если Антонелла в конце концов сочла меня за полного stupido, выражаясь на здешнем наречии. Успеть окончательно разувериться в моих умственных способностях помешал, однако, истошный вопль, раздавшийся из приотворенного окна того дома, возле коего происходило описываемое действие:
– Антонелла! Антонелла! Где ты?!
– О Мадонна! Проснулась Теодолинда! – в ужасе выдохнула Антонелла и исчезла в полной таинственных теней глубине садика.
Чтобы удержаться и не ринуться вслед за нею (она ведь унесла с собой мое сердце, ну мыслимо ли телу без сердца жить?!), я принялся озираться и нашел-таки, что искал: тот самый нож, который разбойники выбили из рук Серджио. Подобрал, вручил ему. Это был длинный и узкий стилет, которым, как мне кажется, довольно трудно нанести рану болезненную, однако при известной ловкости можно так удачно чиркнуть по горлу, что противник даже и не поймет, как настигла его гибель. Я обратил внимание на его причудливую рукоять с завитком по низу, который при надобности мог защитить пальцы от брызг вражеской крови.