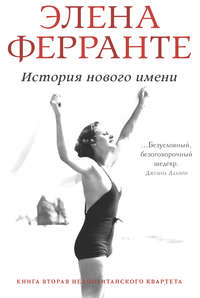Полная версия
История о пропавшем ребенке
– По правде говоря, моя тетя – настоящий профессор.
– По правде говоря? – переспросил полицейский с робкой улыбкой.
– Да.
– Как хорошо ты разговариваешь.
– Спасибо! Правда профессор, ее зовут Мариароза Айрота, она преподает искусствоведение.
Парень шепнул что-то на ухо своему старшему товарищу, они просидели у нас в заложниках минут десять и ушли. Деде проводила их до дверей.
Вскоре Мариароза и мне организовала выступление: на мой вечер собралось еще больше народу, чем обычно. Девочки сидели на подушках в первом ряду большой гостиной и внимательно меня слушали. Мне кажется, именно с того вечера Деде стала присматриваться ко мне с любопытством. Она была очень привязана к отцу и к деду, быстро полюбила Мариарозу, а мной совсем не интересовалась. Я была ее матерью, то и дело что-то ей запрещала, и она терпеть меня не могла. Наверное, ее удивило, что другие люди так внимательно слушают, что я говорю, а может, ей понравилось, с каким спокойствием я отвечала на острые вопросы, которые в тот вечер задавала мне в основном Мариароза. Единственная из собравшихся женщин, та заявила, что не согласна ни с одним моим словом, хотя именно она побуждала меня учиться, писать, публиковаться. Не спрашивая разрешения, она рассказала о моей стычке с матерью во Флоренции, из чего я вывела, что ей известны все подробности. Умело жонглируя умными цитатами, она доказывала мне и собравшимся, что женщина, не уважающая своего происхождения, – потеряна.
27
На время своих отлучек я оставляла девочек на золовку, но вскоре обнаружила, что большую часть времени ими занимается Франко. Вообще он почти не выходил из своей комнаты, не участвовал в лекционных собраниях, не обращал внимания на появлявшихся и исчезавших обитателей квартиры. Но к моим дочкам он привязался и по-своему занялся их образованием. Он научил Деде находить нелепости – так она называла это в разговорах со мной – в классических текстах, например у Менения Агриппы, которого они проходили в школе, куда я наконец ее отдала. «Мама, плебеи, конечно, восхищались красноречием Менения Агриппы, – со смехом говорила она, – только разве могут органы одного человека нормально питаться, если набивают чужой желудок? Ха-ха-ха»[2]. У него же она научилась показывать на большой карте области, утопающие в богатстве или страдающие от чудовищной бедности. «Какая ужасная несправедливость!» – повторяла она за ним.
Как-то вечером, когда Мариарозы не было дома, мой бывший пизанский любовник, кивнув на девочек, с криками носившихся по квартире, сказал мне серьезным и печальным голосом: «Подумать только, а ведь это могли быть наши дети». – «Могли, только были бы старше на пару лет», – согласилась я. Он опустил взгляд, уставившись на свои ботинки, а я смотрела на него и пыталась отыскать черты того богатого и увлеченного учебой студента, которого знала пятнадцать лет назад. Передо мной был он и в то же время не он. Он ничего не читал, не писал, весь последний год почти не участвовал в общих собраниях и дебатах. О политике – единственном настоящем своем увлечении – он говорил без былой страсти и азарта и даже свои мрачные предсказания излагал в насмешливом тоне. С намеренно преувеличенным пессимизмом он перечислял мне грядущие неизбежные катастрофы: «Во-первых, гибель субъекта революции – рабочего класса; во-вторых, растрата политического наследства социалистов и коммунистов, которые уже сегодня передрались между собой, выясняя, кто – или что – сыграло ключевую роль в поддержке капитализма; в-третьих, крах любых надежд на возможные перемены: все идет как идет, надо смириться и приспособиться». – «Ты и правда во все это веришь?» – скептически спросила я. «Конечно, – засмеялся он. – Впрочем, ты знаешь, что в полемике я силен и могу при помощи тезиса, антитезиса и синтеза доказать тебе прямо противоположное: что коммунизм неминуем, что диктатура пролетариата – это высшая форма демократии, что Советский Союз, Китай, Северная Корея и Таиланд гораздо лучше Соединенных Штатов, а проливать кровь ручьями и реками иногда, конечно, преступно, но иногда и справедливо. Так тебе больше нравится?»
Только два раза мне довелось увидеть его прежним. Однажды утром к нам пришел Пьетро, без Дорианы, с видом инспектора, который явился проверить, в каких условиях живут дети, в какую школу ходят, всего ли им хватает. Момент был напряженный. Может, девочки слишком много ему рассказали, может, по-детски что-то присочинили, но только он накинулся сначала на сестру, а потом на меня, обвинив нас в безответственности. Я потеряла терпение и крикнула: «Конечно, ты всегда прав! Вот и забирай их себе и воспитывай вместе с Дорианой!» Тут из своей комнаты появился Франко. Припомнив свое былое красноречие, когда-то помогавшее ему управлять буйными сборищами, он завел с Пьетро ученый спор о семейных отношениях и воспитании детей. Они дошли до Платона, совершенно забыв о нас с Мариарозой. Муж уехал раскрасневшийся, с горящими глазами, в крайнем возбуждении и страшно довольный, что нашел достойного собеседника для умной и культурной дискуссии.
Еще более бурным и ужасным был день, когда у нас на пороге без предупреждения появился Нино. Он явно устал от долгой поездки на машине и выглядел не лучшим образом. Во мне вспыхнула надежда, что он приехал за нами. «Пусть только скажет:„Я разобрался с женой“, – думала я, – и мы уедем с ним в Неаполь». Я бы простила ему все, ни о чем не стала бы вспоминать, настолько устала жить в подвешенном состоянии. Но надеялась я напрасно. Мы закрылись в комнате, и он, заикаясь, ломая руки и теребя волосы, сообщил, что не может расстаться с женой. Задыхаясь, он пытался объяснить, что не хочет отказываться от меня, а это возможно, только если он останется с Элеонорой. В другой ситуации мне стало бы его жаль: я видела, что он действительно мучится. Но тогда меня нисколько не заботила глубина его страданий.
– Что ты такое несешь? – с изумлением спросила я.
– Я не могу оставить Элеонору, но и без тебя жить не могу.
– То есть ты предлагаешь мне сменить роль любовницы на роль второй жены?
– Что ты говоришь? Это не так.
Но это было именно так.Я встала и указала ему на дверь. Я была по горло сыта его враньем, его отговорками, его жалкими оправданиями. В ответ он, едва шевеля губами, словно слова застревали у него в горле, назвал мне причину своего приезда. Оказалось, он «не хотел, чтобы я узнала от других», что Элеонора беременна. На восьмом месяце.
28
Сегодня, когда у меня целая жизнь за спиной, я понимаю, что слишком бурно отреагировала на это известие, – пишу и смеюсь сама над собой. Я знаю огромное количество таких историй о любви и сексе, наслушалась их и от мужчин, и от женщин, – что поделать, это неуправляемые животные инстинкты. Но тогда мне сорвало крышу.Элеонора на восьмом месяце – более страшного удара Нино не мог мне нанести. Я сразу вспомнила, как неуверенно Лила переглядывалась с Кармен, как они переглядывались, будто советовались, сказать мне все или нет. Значит, Антонио выяснил и про ее беременность? И они все знали? Но почему Лила решила утаить от меня эту новость? Взяла на себя обязанность дозировать мою боль? Что-то оборвалось у меня в груди и в животе. Нино, задыхаясь от волнения, невнятно бормотал, что, забеременев, жена окончательно успокоилась, но бросить ее теперь он никак не может, а я, скрестив на груди руки, вдруг согнулась пополам от пронзившей все тело боли, не в силах не то что кричать, но даже говорить. Затем я резко выпрямилась. Дома был только Франко. Никто из безумных больных дам и безутешных певичек у нас в то время не жил, а девочек Мариароза увела на улицу, чтобы дать нам с Нино возможность вволю поругаться. Я открыла дверь и все еще слабым голосом позвала Франко. Он тут же пришел, я показала ему пальцем на Нино и прохрипела: «Выгони его отсюда».
Он его не выгнал, но жестом показал, чтобы тот молчал. Он не спрашивал, что случилось, вместо этого взял меня за запястья, постоял со мной, подождал, пока я приду в себя. Затем отвел меня на кухню, усадил на стул. Нино поплелся за нами. Я заламывала руки и сдавленно стонала. Когда Нино попытался приблизиться ко мне, я повторила: «Выгони его». Франко отвел его в сторону и спокойно произнес:
«Оставь ее в покое. Уходи». Нино послушно вышел из кухни, а я сбивчиво, поминутно умолкая, рассказала Франко, что случилось. Он слушал меня не перебивая, пока не понял, что больше у меня нет сил говорить. Тогда он в своей обычной наукообразной манере сказал, что наслаждаться тем, что есть, вместо того чтобы ждать невозможного, – не такая уж плохая привычка. Я взвилась: «Вечно эти ваши мужские оправдания! Плевать я хотела на ваши наслаждения! Хватит чушь пороть!» Он не обиделся и призвал меня оценить ситуацию трезво. «Давай порассуждаем. Этот человек врал тебе два с половиной года, говорил, что оставил жену, что между ними ничего нет, а теперь выясняется, что семь месяцев назад она от него забеременела. Это ужасно, ты права, Нино подлец. Но заметь, он же мог просто исчезнуть из твоей жизни и забыть про тебя навсегда. Подумай, зачем ему было ехать из Неаполя в Милан, целую ночь провести за рулем? Зачем он пришел сюда унижаться, каяться? Зачем ему умолять тебя не бросать его? Наверное, это что-то да значит…» – «Это значит, – завопила я, – что он врун, пустышка и ему не хватает мужества сделать выбор». Франко кивал, со всем соглашался, но потом спросил: «А что, если он действительно тебя любит и знает, что по-другому любить не сможет?»
Возможности наорать на него за то, что неожиданно встал на сторону Нино, мне не дали. Дверь открылась, на пороге появилась Мариароза. Девочки узнали Нино и, мигом забыв о днях и месяцах, когда их отец использовал его имя исключительно как ругательство, кинулись к нему. Нино заговорил с ними, Франко и Мариароза стали меня успокаивать. Как все это было сложно! Деде и Эльза громко болтали и смеялись, а Мариароза и Франко пытались привести меня в чувство при помощи рациональных аргументов. Они призывали меня подумать здраво, но сами при этом не могли сдержать волнения. Франко вопреки своему обыкновению рубить сплеча неожиданно заговорил о компромиссе. Золовка при всем сочувствии ко мне защищала Нино и – особенно – бедную Элеонору, чем сильно меня обидела, – возможно, случайно, а возможно, и с расчетом. «Не злись, – говорила она, – ну рассуди, ты ведь тоже женщина. Разве ты способна ради своего счастья погубить другую женщину?»
И так до бесконечности. Франко уговаривал меня смириться с тем, что есть, и решить, что в данных обстоятельствах будет для меня лучше; Мариароза рисовала передо мной портрет Элеоноры, брошенной с грудным ребенком на руках, и предлагала: «Попробуй с ней поговорить – вот увидишь, вы поймете друг друга, она же твое зеркальное отражение, а ты – ее». «Что за чушь они несут, – думала я. – Почему я должна выслушивать подобные глупости от людей, которые ничего не понимают и не могут понять. Лила развернулась бы и ушла – она всегда так делает. Лила сказала бы: „Ты уже наломала достаточно дров. Плюнь им в рожу и беги!“ Любимый ее выход из любой ситуации». Но мне было страшно, а болтовня Мариарозы и Франко не только не помогла мне, но запутала еще больше. Я посмотрела на Нино. Какой он был красивый и как ловко подлизывался к моим дочкам. Он привел их к нам на кухню и как ни в чем не бывало сказал, обращаясь к Мариарозе: «Тетушка, какие прекрасные у вас племянницы!» При этом он коснулся пальцами ее обнаженного колена. Я увела его из дома, и мы пошли пройтись до базилики Сант-Амброджо.
Помню, было жарко. Мы шли вдоль красной кирпичной стены, над нами кружил пух платанов. Я сказала Нино, что мне нужно время, чтобы привыкнуть обходиться без него. Он ответил, что никогда не сможет жить без меня. «Конечно, – ответила я. – Ты вообще ни с кем расстаться не в состоянии». Он твердил, что все не так, что это все обстоятельства, что он должен сохранять эти отношения ради нас, чтобы быть со мной. Я поняла, что мне его не переубедить: он видел перед собой лишь бездну и был слишком напуган. Я проводила его до машины. Прежде чем завести мотор, он спросил меня: «Что ты думаешь делать?» Я промолчала. Я не знала ответа на этот вопрос.
29
Принимать решение мне пришлось несколько недель спустя: обстоятельства вынудили. Мариарозе надо было по делам съездить в Бордо. Перед отъездом она отвела меня в сторону, чтоб никто не слышал, и завела довольно сумбурный разговор о Франко. Она просила все время ее отсутствия быть рядом с ним, потому что он в глубокой депрессии. Я и раньше догадывалась, что с Франко все непросто, но, поглощенная проблемами, не думала об этом. Теперь я наконец поняла, что Мариароза не играет с ним в добрую самаритянку, как со всеми нами, его она любит по-настоящему. Она стала ему и матерью, и сестрой, и любовницей одновременно, и вечная тревога на лице, и неестественная худоба объяснялись тем, что она боялась за него – он мог сломаться в любую минуту.
Ее не было восемь дней. С огромным трудом (голова у меня была забита другим) я присматривала за Франко, каждый вечер допоздна с ним болтала. К моей радости, вместо разговоров о политике он предпочитал рассказывать о себе или о тех днях, когда нам было так хорошо вместе. Мы вспоминали наши весенние прогулки по Пизе, вдоль Арно, он делился со мной тем, что обычно держал при себе: говорил о своем детстве, родителях, бабушках и дедушках. Он и мне давал возможность выговориться: я болтала о новом контракте с издательством, о том, что мне надо срочно садиться за новую книгу, о возможном возвращении в Неаполь, о Нино. Мне особенно нравилось, что он избегал общих рассуждений и высоких слов, предпочитая ясность мысли и иногда пугающую откровенность. В один такой вечер, когда он показался мне еще более подавленным, чем обычно, он сказал: «Если он значит для тебя больше, чем ты сама, придется тебе брать его со всем багажом: женой, детьми, дурной привычкой трахать всех баб подряд и другими мерзостями. Эх, Лену, Ленучча…» Он расстроенно покачал головой, но потом рассмеялся, поднялся с кресла, произнес туманную фразу о том, что любовь, по его мнению, кончается только тогда, когда можно без страха и отвращения вернуться к себе самому, и вышел из комнаты, неуверенно передвигая ноги, будто проверял, точно ли под ним есть пол. Не знаю почему, тем вечером мне вспомнился Паскуале – полная противоположность Франко по социальному положению, культуре, политическим взглядам. Почему-то мне подумалось, что, если бы моему старому другу удалось вернуться живым из той тьмы, что его поглотила, у него была бы именно такая походка.
Весь день Франко просидел взаперти в своей комнате. На вечер у меня была назначена встреча по работе, я постучала к нему в дверь и спросила, сможет ли он накормить ужином Деде и Эльзу. Он пообещал все сделать. Вернулась я поздно. На кухне Франко оставил ужасный беспорядок, хотя всегда за собой убирал. Я все прибрала, помыла посуду. Спала я недолго, встала в шесть. По пути в ванную, проходя мимо его комнаты, обратила внимание на пришпиленный к двери кнопкой тетрадный лист:«Лену, не пускай в комнату девочек». Сначала я подумала, что Деде с Эльзой надоели ему за эти дни или вчера вечером чем-то его рассердили, и он решил их таким образом наказать, но потом поняла, что этого не может быть: Франко обожал моих дочек и ни за что так с ними не поступил бы. Около восьми я несмело постучала в дверь. Никто не отозвался. Я постучала сильнее, осторожно приоткрыла дверь: в комнате было темно. Я позвала Франко – он не отозвался, тогда я включила свет.
Подушка и простыни были в крови, огромное черное пятно расползлось до самых его ног. Как омерзительна смерть! Здесь скажу только, что, когда я увидела его безжизненное тело, меня охватили одновременно отвращение и жалость. Я знала это тело во всех интимных подробностях, я видела этого человека счастливым, энергичным, знала, сколько книг он прочитал, сколько всего повидал в жизни. В голове не укладывалось: Франко, всегда такой живой, исполненный благородных целей и надежд, Франко – образец хороших манер, – и вдруг это ужасное зрелище. Как мог он так жестоко поступить со своей памятью, языком, умом?! Как он должен был ненавидеть себя, свое тело, свои настроения, мысли, слова, весь отвратительный вывих этого мира, заразивший его своей мерзостью!
В последующие дни мне часто вспоминалась Джузеппина, мать Паскуале и Кармен. Она тоже не смогла вынести себя и жизни, что выпала ей на долю. Но Джузеппина родилась задолго до моего рождения, а Франко был моим ровесником, и потрясение от его противоестественной смерти долго не отпускало меня. Я долго думала над оставленной им запиской. Он обращался ко мне, как бы говоря: «Не пускай сюда девочек, я не хочу, чтобы они видели меня таким, а сама заходи, тыдолжнаменя увидеть». Я и сегодня продолжаю думать о той его двойной просьбе: одной явной, другой скрытой. После похорон, на которых собралась толпа активистов (Франко, несмотря ни на что, все знали и уважали), я пыталась сблизиться с Мариарозой, хотела поговорить с ней о нем, но она не позволила. Она совсем перестала следить за собой, ни с кем не хотела видеться, ее живой взгляд потух. Дом понемногу опустел. Она больше не видела во мне сестру и с каждым днем вела себя все более враждебно. Она или целые дни проводила в университете, или закрывалась у себя в комнате и просила ее не беспокоить. Шумные игры девочек все больше ее раздражали, но еще сильнее она злилась на меня, если я запрещала им шуметь. Вскоре я собрала чемоданы, и мы с Деде и Эльзой уехали в Неаполь.
30
На сей раз Нино не обманул: он действительно снял для нас жилье на виа Тассо. Мы въехали туда сразу, хотя квартира кишела муравьями, а из мебели в ней была только двуспальная кровать без изголовья, кроватки для девочек, стол и пара стульев. Никаких разговоров о любви я с Нино больше не вела, о планах на будущее не заикалась.
Я лишь сообщила ему, что переехала вынужденно, из-за Франко, и что у меня для него две новости – одна хорошая, вторая плохая. Хорошая новость заключалась в том, что мое издательство согласилось напечатать подборку его эссе при условии, что он перепишет их не таким сухим языком, плохая – что он больше не коснется меня и пальцем. Первую новость он воспринял с восторгом, вторую – с отчаяньем. В итоге все вечера мы проводили вместе, сидя рядом и правя каждый свой текст. Этой близости оказалось достаточно, чтобы я сменила гнев на милость. Элеонора еще ходила беременная, когда мы снова стали любовниками. Ко дню рождения девочки, которую назвали Лидией, мы с Нино опять превратились во влюбленную парочку со своими привычками, красивым домом, двумя дочками и бурной личной и общественной жизнью.
– Только не думай, – сразу заявила я ему, – что все всегда будет по-твоему. Пока я не могу без тебя обходиться, но рано или поздно брошу.
– Не бросишь, я не дам тебе повода.
– Поводов у меня и так предостаточно.
– Скоро все изменится.
– Посмотрим.
Конечно, это все был фарс: я пыталась убедить себя, что поступаю разумно, хотя разумом тут и не пахло – сплошное унижение. Переиначивая слова Франко, я твердила себе: «Я всего лишь беру от жизни то, в чем сейчас нуждаюсь, но скоро мне надоест его физиономия, его речи, отступят все желания – и я пошлю его куда подальше». Когда я ждала его целый день, а он так и не приходил, я уверяла себя, что так даже лучше, что у меня куча дел, а он мне только мешает. Когда меня охватывала ревность, я успокаивала себя: «Любит-то он все равно однуменя». Когда я вспоминала о его детях, то и тут находила утешение: «Он с Деде и Эльзой проводит больше времени, чем с Альбертино и Лидией». Все это была правда и в то же время ложь. Да, меня уже не тянуло к Нино с той силой, как раньше. Да, у меня была куча других дел. Да, Нино любил меня, любил Деде и Эльзу. Но были и другие «да», которых я пыталась не замечать. Да, я была привязана к нему. Да, я готова была бросить все, лишь бы он остался со мной. Да, его привязанность к Элеоноре, Альбертино и новорожденной Лидии была по меньшей мере так же сильна, как ко мне и моим дочерям. Эти «да» я старалась спрятать за темной ширмой, а когда из-под нее выглядывало что-нибудь, что делало очевидным реальное положение дел, я спасалась громкими словами о становлении нового мира: дескать, все меняется, появляются новые формы отношений и тому подобное. Эти и похожие глупости я повторяла вслух, выступая на публике, и о них же писала в своих статьях.
Трудности обрушивались на меня с регулярностью парового молота, оставляя на моем существовании все новые трещины. Город за прошедшее время ничуть не стал лучше: он по-прежнему высасывал из меня все силы. Жить на виа Тассо оказалось очень неудобно. Рино раздобыл для меня подержанный «Рено 4» белого цвета. Сначала я пришла в восторг, но вскоре выяснилось, что ездить из-за пробок невозможно. От повседневных забот голова шла кругом – такого со мной никогда не было ни во Флоренции, ни в Генуе, ни в Милане. Деде с первого дня в школе возненавидела учительницу и одноклассников. Эльза пошла в первый класс и теперь каждый день возвращалась домой расстроенная, с зареванными глазами, и отказывалась говорить, что случилось. Я ругала обеих, говорила, что они не умеют постоять за себя, приспособиться к обстановке, заставить себя уважать и что им придется этому научиться. Сестры встречали мои попреки единым фронтом, все чаще вспоминая Аделе и Мариарозу, при которых они жили как в раю. Я пыталась расположить их к себе лаской, обнимала и целовала. Иногда они нехотя отвечали на мои объятия, но могли и оттолкнуть. Что до работы, то мне очень скоро стало очевидно, что я напрасно покинула Милан: надо было постараться устроиться в издательство, пока все складывалось в мою пользу. Или перебраться в Рим: когда я ездила туда с презентацией книги, познакомилась с людьми, которые могли бы мне помочь. Что мы с дочками вообще делали в Неаполе? Неужели мы торчали там только ради того, чтобы доставить удовольствие Нино? А как же мое стремление к свободе и независимости? Неужели я просто врала себе? Значит, и своей публике я тоже врала, изображая из себя спасительницу, которая двумя книжками поможет каждой женщине признаться в том, о чем она до сих пор боялась говорить? Неужели мне просто хотелось в это верить, а на деле я ничем не отличалась от своих ровесниц с их традиционными взглядами на роль женщины? Если отбросить болтовню, то придется признать: я позволила мужчине полностью определить, как мне жить, и поставила его интересы выше своих и интересов своих дочерей.
Я научилась убегать от этих мыслей. Стоило Нино постучать в дверь, как все мои сожаления улетучивались. «Сейчас, – говорила я себе, – все идет как идет, и по-другому быть не может». Я старалась держать себя в руках, не поддаваться отчаянию, иногда мне даже удавалось почувствовать себя счастливой. Квартиру заливал солнечный свет, с балкона открывался вид на Неаполь, лежавший как на ладони, простираясь до самой золотисто-голубой кромки моря. Я сумела вытащить дочерей из временных пристанищ в Генуе и Милане. Воздух, яркие краски, звучание диалекта на улице, образованные люди, которых Нино мог привести в мой дом в любое время, даже посреди ночи, вселяли в меня уверенность и дарили радость. Я возила девочек к Пьетро во Флоренцию и с удовольствием принимала у себя, когда он приезжал в Неаполь. Несмотря на недовольство Нино, я стелила ему постель в комнате дочек, а они не отходили от него ни на шаг, как будто верили, что, если папа увидит, как сильно они его любят, он останется. Мы старались вести непринужденные беседы; я интересовалась, как дела у Дорианы, расспрашивала о его книге, которая, как всегда, должна была вот-вот выйти, но вдруг всплывали некоторые детали, требовавшие отдельного освещения. Девочки жались к отцу, на меня даже не смотрели, и я отправлялась немного прогуляться: спускалась по Арко-Мирелли, проходила по виа Караччоло вдоль моря или поднималась до виа Аньелло-Фальконе, шла до Флоридианы, садилась на скамейку и читала.
31
С виа Тассо наш квартал представлялся бесцветными каменными развалинами, едва различимыми у подножия Везувия. Мне хотелось, чтобы так оно и было: теперь, когда я стала другим человеком, мне верилось, что больше ему меня не засосать. Но и на сей раз моя решимость оказалась не такой твердой, как я воображала. Когда первая суета по обустройству квартиры осталась позади, я выдержала дня три, от силы четыре, а потом старательно нарядила девочек, сама оделась получше и объявила: «Пойдем навестим бабушку Иммаколату, дедушку Витторио и ваших дядей».
Мы вышли рано утром и сели в метро на пьяцца Амедео. Девочки были в восторге: ветер, поднятый поездом, трепал волосы, раздувал подолы платьев, перехватывал дыхание. Я не видела мать с того самого скандала во Флоренции. Я боялась, что она не захочет со мной разговаривать, и потому не звонила заранее и не предупреждала о нашем приходе. Признаться честно, была и еще одна причина, заставившая меня отправиться в родной квартал. Скажем так, я решила убить двух зайцев одним выстрелом. Квартал для меня был в первую очередь связан не с родней, а с Лилой. Все это время меня мучил вопрос, как теперь быть с ней, – за ответом на него я туда и поехала. Именно поэтому я так наряжала девочек и прихорашивалась сама – вдруг столкнемся с ней случайно на улице. Мне хотелось, чтобы она увидела: я прекрасно выгляжу, мои дочери не брошены, не страдают и всем довольны.