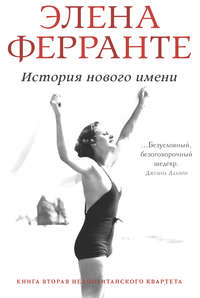Полная версия
История о пропавшем ребенке
– Девочки будут жить со мной, а ты будешь видеться с ними по выходным.
– По выходным… А где?
– У меня.
– А где ты будешь жить?
– Не знаю, пока не решила: здесь, в Милане, в Неаполе…
Одного этого слова – Неаполь – оказалось достаточно. Услышав его, Пьетро вскочил на ноги, вытаращил глаза, открыл рот, будто собирался меня укусить, и занес надо мной кулак; его лицо приняло такое свирепое выражение, что я испугалась. Мне никогда не забыть то бесконечное мгновение. Капала из крана вода, гудел холодильник, во дворе кто-то смеялся. Пьетро был крупный, с большими белыми костяшками пальцев. Однажды он уже поднимал на меня руку, и я подумала, что сейчас он меня убьет. Я вскинула вверх руки, закрывая голову. Но он вдруг развернулся и ударил раз, второй и третий по металлическому шкафчику, в котором я держала швабры. Он бы продолжал колотить по нему и дальше, если бы я не вцепилась в него и не закричала: «Прекрати, ты себя покалечишь!»
Этот приступ бешенства привел к тому, что мои мрачные предчувствия оправдались: мы поехали в больницу. Ему наложили гипс и отпустили, и дома Пьетро даже повеселел. Я вспомнила, что сегодня Рождество, приготовила поесть. Мы сели за стол, и он ни с того ни с сего заявил:
– Вчера я звонил твоей матери.
Я подскочила на месте:
– Как тебе такое в голову взбрело?
– Брось, должен же кто-то поставить ее в известность. Я рассказал ей, что ты со мной сделала.
– Я сама должна была с ней поговорить.
– Зачем? Чтобы наврать ей, как врала мне?
Я готова была вспылить, но удержала себя в руках: боялась, что он снова начнет ломать себе кости, чтобы не переломать их мне. Но он лишь улыбнулся и посмотрел на свою руку в гипсе.
– Выходит дело, за руль я сесть не смогу.
– А куда ты собрался?
– На вокзал.
Как выяснилось, моя мать в день Рождества села на поезд – хотя была как никогда нужна дома, где на ней висело столько дел, – и поезд вот-вот прибывал.
13
Мне хотелось сбежать. Например, в Неаполь. А что, удеру в город матери, пока она не добралась до моего, побуду с Нино, немного успокоюсь. Но я никуда не поехала. Не настолько я изменилась, чтобы, наплевав на приличия, прятаться от людей. «И вообще, что она мне может сделать? – убеждала я себя. – Я взрослая женщина. А может, еще привезет всяких вкусностей, как десять лет назад в Пизу, на Рождество, когда я болела».
Я села за руль и вместе с Пьетро поехала на вокзал встречать мать. Она вышла из поезда, чопорная, в новом пальто, с новой сумкой, в новых сапогах и даже немного припудренная. «Отлично выглядишь, – сказала я ей, – очень элегантно». – «Не твоими стараниями», – отрезала она. Больше она не сказала мне ни слова, зато была очень приветлива с Пьетро. Спросила, что у него с рукой, он сказал, что налетел на дверь. «Налетел, – проворчала она на неуверенном итальянском, – знаю я, кто на тебя налетел».
Дома она оставила свою наигранную сдержанность. Хромая взад-вперед по гостиной, прочитала мне длинную нотацию. Пела дифирамбы моему мужу, бесстыдно преувеличивая его достоинства, и приказывала мне немедленно просить у него прощения. Убедившись, что меня не собьешь, начала сама умолять его простить меня, клялась Пеппе, Джанни и Элизой, что не вернется домой, пока мы не помиримся. Поначалу мне казалось, что она попросту насмехается и надо мной, и над Пьетро. Список его добродетелей был в ее изложении бесконечным, правда, надо признать, что и перечисляя мои, она тоже не поскупилась. Тысячу раз повторила, что мы, такие умные и образованные, созданы друг для друга. Призывала подумать о будущем Деде (ее любимице, – про Эльзу она как будто забыла), ведь девочка все понимает, и нельзя заставлять ее страдать.
Пока она говорила, муж согласно кивал, хотя выражение лица у него было скептическое, как будто он смотрел спектакль, в котором актеры явно пережимают. Она обнимала его, целовала, благодарила за великодушие, перед которым – кричала она мне – я обязана стать на колени. Она толкала нас друг к другу, чтобы мы обнялись и поцеловались. Я сердито уворачивалась, не переставая думать: «Терпеть ее не могу, на дух не переношу! Ну почему в такие минуты, да еще на глазах у Пьетро, я должна расплачиваться за то, что эта женщина меня родила?» И все же я внушала себе, что должна успокоиться: «Она в своем репертуаре, скоро устанет и пойдет спать». Только когда она в тысячный раз попыталась схватить меня и заставить признаться, что я виновата, но больше так не буду, я отскочила в сторону и сказала: «Хватит, мам, это бесполезно. Я не могу больше быть с Пьетро, я люблю другого».
Это была моя ошибка. Я ведь ее знала, она только ждала повода. Все вмиг изменилось: с увещеваниями было покончено. Она влепила мне пощечину и что было мочи заорала: «Заткнись, шлюха, заткнись, заткнись, заткнись!» Она попыталась вцепиться мне в волосы и завопила, что я ей надоела, потому что я ломаю себе жизнь и бегаю за сынком Сарраторе, который еще хуже, намного хуже, чем его поганый папаша. «Раньше я думала, – разорялась она, – что это твоя подруга Лина потащила тебя по дурной дороге, но нет: это ты,тыее испортила. Без тебя она стала порядочной женщиной. Лучше бы я в детстве тебе ноги переломала! У тебя золотой муж, он сделал из тебя синьору, поселил в прекрасном городе, он тебя любит, подарил тебе двух дочерей, и на кого ты собираешься его поменять, дура? А ну иди сюда, я тебя родила, я и убью!»
Она подскочила ко мне вплотную, и мне показалось, что сейчас она и вправду меня убьет. В тот миг я ощутила всю искренность ее разочарования, всю искренность материнской любви, готовой превратиться в лютую ненависть за то, что я не желала ей подчиняться и делать то, что она считала для меня благом, за то, что я отказывалась от того, чего у нее никогда не было и благодаря чему она считалась самой удачливой матерью в нашем квартале. Она готова была изничтожить меня за то, что я разбрасываюсь доставшимся мне божьим даром. Я оттолкнула ее и закричала еще громче, чем она. Это был инстинктивный жест, но она потеряла равновесие и упала на пол.
Пьетро испугался. На его лице мелькнул страх: у него на глазах его мир столкнулся с моим миром. Он никогда в жизни не видел таких сцен, не слышал таких слов и криков, не представлял себе, что такое бывает. Мать, падая, уронила стул. Из-за больной ноги она никак не могла подняться и беспомощно взмахивала рукой, пытаясь ухватиться за край стола. Но она и не думала сдаваться и продолжала выкрикивать угрозы и оскорбления. Она не замолчала даже после того, как ошеломленный Пьетро протянул ей здоровую руку и помог встать. Сдавленным от бешенства голосом, в котором звучала настоящая боль, задыхаясь, она проговорила: «Ты мне больше не дочь. Он теперь мой сын. Отцу и братьям ты тоже больше не нужна. Пусть сынок Сарраторе заразит тебя гонореей и сифилисом! Боже, чем я так согрешила, что дожила до этого дня! Боже, Боже, я хочу умереть!
Прямо сейчас, на этом самом месте!» Ей было так плохо, что она – невероятно, но правда – громко разрыдалась.
Я ушла в спальню и заперлась на ключ. Я не знала, что делать. Я и представить себе не могла, что разрыв с мужем превратится в такую пытку. Я была напугана и раздавлена. До каких темных глубин я опустилась, если повела себя в точности как моя мать, решившись на физическое насилие? Я успокоилась, лишь когда Пьетро постучал ко мне в дверь и тихо, с неожиданной мягкостью в голосе сказал: «Можешь мне не открывать, не надо. Я должен только сказать, что не хотел этого. Это слишком, даже ты этого не заслуживаешь».
14
Я надеялась, что мать смягчится, что утром настроение у нее, как обычно, изменится и она тем или иным способом покажет, что любит меня и гордится мной, несмотря ни на что. Но этого не случилось. Я слышала, как они с Пьетро всю ночь болтали. Она льстила ему, злобно повторяла, что я – ее крест, и жаловалась, что со мной никакого терпения не хватит. Чтобы избежать новой ссоры, я слонялась по дому, не вмешиваясь в их тайные совещания, и пыталась читать. Я чувствовала себя несчастной. Мне было стыдно, что я ее толкнула, стыдно за нее и за себя; хотелось попросить у нее прощения, обнять ее, но я боялась, что она поймет меня неправильно и решит, что я сдаюсь. Раз уж она заявила, что это я дурно влияла на Лилу, а не наоборот, значит, ее злость на меня достигла предела. Оправдывая ее, я говорила себе: ее мерило – квартал, а в квартале вся ее жизнь на глазах менялась к лучшему. Она считала, что благодаря Элизе породнилась с Солара; ее сыновья работали на Марчелло, которого она тоже с гордостью причисляла к своей родне; она носила новые наряды – признак внезапно свалившегося на нее благополучия, – и, естественно, в ее глазах Лила выглядела удачливей, чем я, ведь она сотрудничала с Микеле Соларой, жила с Энцо и так разбогатела, что собиралась выкупить родительскую квартиру. Но все эти рассуждения только увеличивали пропасть между нами: мне больше не о чем было с ней говорить.
До самого ее отъезда мы так и не сказали друг другу ни слова. Мы поехали на вокзал, но всю дорогу она делала вид, что меня не существует, хотя за рулем сидела я. Она пылко благодарила Пьетро за все, что он для нее сделал, и до отправления поезда настойчиво просила сообщать ей, как срастается его сломанная рука и как дела у девочек.
Как только она уехала, стало очевидно, что ее вторжение возымело неожиданный эффект. Муж уже по пути домой подтвердил, что не случайно вчера вечером пришел ко мне под дверь выразить свое сочувствие. Наша с матерью стычка больше, чем я сама за все эти годы, сказала ему, в каких условиях я росла. Он наконец это осознал и, я думаю, пожалел меня. Он снова стал собой, мы вернулись к нормальному тону в разговорах и через несколько дней отправились к адвокату. Он долго расспрашивал нас о том о сем, а потом сказал:
– Вы уверены, что не хотите больше жить вместе?
– Как можно жить с человеком, которому ты больше не нужен? – вопросом на вопрос ответил Пьетро.
– Вам что, больше не нужен ваш муж, синьора?
– Это мое дело, – ответила я, – а ваше – зарегистрировать наше раздельное проживание.
Когда мы вышли на улицу, Пьетро рассмеялся:
– Ты прямо как твоя мать.
– Ничего подобного.
– Да, пожалуй, ты права. Уточню: ты как мать, если бы она получила образование и писала романы.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что ты хуже.
Я обиделась на него, но не сильно, я была рада, что он хоть немного пришел в себя. Я вздохнула с облегчением и сосредоточилась на том, что делать дальше. Начались долгие междугородные разговоры с Нино. Я рассказала ему обо всем, что произошло со мной с момента нашего расставания, и мы стали обсуждать мой переезд в Неаполь. О том, что мы с Пьетро снова живем под одной крышей, хоть и – разумеется – в разных комнатах, я предусмотрительно умолчала. Кроме того, я часто звонила дочкам и с нескрываемой злобой сообщила Аделе, что скоро за ними приеду.
– Не волнуйся, – пыталась переубедить меня свекровь, – они могут побыть у меня, сколько тебе нужно.
– Деде пора идти в школу.
– Она может учиться здесь. Школа в двух шагах от дома, я обо всем позабочусь.
– Нет, я сама буду ими заниматься.
– Подумай. Разведенная женщина с двумя детьми и твоими амбициями должна считаться с реальностью. Тебе надо решить, он чего можно отказаться, а от чего нет.
В этой ее последней фразе меня взбесило каждое слово.
15
Я собиралась ехать в Геную немедленно, но мне позвонили из Франции. Старшая из издательниц просила написать текст на основе тех размышлений, которыми я делилась на встречах с читателями, для публикации в крупной газете. Пришлось выбирать между возвращением дочерей и работой. Я отложила поездку и засела за работу. Я писала день и ночь, не уверенная, что справлюсь с поставленной задачей. Не успела я отшлифовать текст, как позвонил Нино и сказал, что у него перед университетом выдалось несколько свободных дней и он может приехать ко мне. Я не смогла устоять, и мы на машине отправились в Арджентарио. Любовь поглотила меня. Это были прекрасные дни, мы проводили их у зимнего моря и, чего со мной никогда не бывало раньше, ни с Франко, ни тем более с Пьетро, получали удовольствие абсолютно от всего: от еды, вина, разговоров, секса. Я вставала на рассвете и садилась писать.
Однажды вечером, в постели, Нино дал мне прочесть свою работу, сказав, что ему очень важно мое мнение. Это была довольно мутная статья о фабрике «Италсайдер» в Баньоли. Я начала читать, прижимаясь к нему, а он то и дело твердил: «Я плохо пишу. Исправь, что считаешь нужным. У тебя слог намного лучше, еще с лицея». Я похвалила статью, посоветовала переделать кое-какие мелочи. Но Нино все не успокаивался, просил меня править как можно больше и вдруг сделал страшное признание. Смущаясь, но в то же время как будто в шутку он сказал, что должен открыть мне один секрет – рассказать о поступке, который он считает самым постыдным в своей жизни. Оказалось, он имел в виду заметку по поводу моей стычки с преподавателем богословия, которую давным-давно, в лицее, я по его просьбе написала для студенческого журнала.
– С чего это ты о ней вспомнил? – засмеялась я.
– Я все тебе расскажу, только помни, что я был тогда мальчишкой.
Я поняла, что ему действительно стыдно, и внутренне напряглась. Он признался, что прочел тогда заметку и подумал, что это невозможно – писать так красиво и так умно. Я обрадовалась комплименту, поцеловала его и вспомнила, как мы с Лилой трудились над этими страницами. Не без иронии, но я все же рассказала ему, какое горькое разочарование испытала, узнав, что в журнале не хватило места для моей статьи.
– Это ведь я тебе так сказал? – с трудом выдавил Нино.
– Наверное, не помню уже.
Его лицо исказила печальная гримаса.
– На самом деле места для статьи было предостаточно.
– Почему же тогда ее не напечатали?
– Из зависти.
Я хмыкнула:
– Ты хочешь сказать, что редакторы позавидовали мне?
– Нет, это я тебе позавидовал. Я прочитал твой текст и выбросил статью в мусорное ведро. Не мог смириться, что ты так здорово пишешь.
Какое-то время я молчала. Как я трудилась над той заметкой, как потом страдала! Мне не верилось, что он, отличник, любимчик профессора Галиани, мог позавидовать строчкам, написанным какой-то школьницей. Я понимала, что Нино ждет моей реакции, но этот подлый поступок никак не совмещался в моем сознании с сияющим нимбом, которым я с детства привыкла окружать его образ. Секунды шли, и мной владело замешательство. Я гнала от себя слышанные от Аделе слова о том, что по Милану о Нино ходит дурная слава; я пыталась не думать о предостережениях Лилы и Антонио, утверждавших, что ему нельзя доверять. Но потом я словно очнулась и обняла Нино. Ведь он не обязан был рассказывать мне о своем тогдашнем малодушии, но все же рассказал, и его искренность тронула меня. Он не побоялся выставить себя передо мной в дурном свете. Значит, поняла я, отныне я всегда и во всем могу на него положиться.
Той ночью мы занимались любовью с еще большей страстью, чем обычно. Проснувшись, я сказала себе, что Нино, признав свою вину, доказал, что я всегда была для него особенной: и когда он встречался с Надей, и когда стал любовником Лилы. Это было чудесно – чувствовать, что тебя не только любят, но и уважают. Он доверил мне свой текст, и я помогла ему отшлифовать его до полного блеска. В те дни в Арджентарио мне казалось, что моя способность воспринимать окружающее, вникать в увиденное и услышанное и излагать свои мысли достигла пика. Это, как я с гордостью отмечала, подтверждалось бесспорным успехом книги, которую я написала, чтобы понравиться Нино и которую теперь читали за пределами Италии. Наконец у меня было все. За бортом остались только Деде и Эльза.
16
Я не сказала свекрови, что уехала с Нино, зато сообщила о статье для французской газеты, над которой якобы работаю. Скрепя сердце я все же поблагодарила ее за то, что она взяла на себя заботу о внучках.
Я не доверяла Аделе, но проблему она обозначила правильно. Как совместить заботу о детях с новым образом жизни? Я рассчитывала вскоре поселиться с Нино, не важно, где именно, и надеялась, что мы будем помогать друг другу. Но что делать до переезда? Как совместить наши свидания, Деде с Эльзой, писательство, публичные выступления и скандалы с Пьетро, который хоть и образумился немного, но продолжал на меня давить. И это не говоря уже о финансовых трудностях. Своих денег у меня осталось совсем мало, а когда я смогу заработать на новой книге, было неизвестно. Я понимала, что в ближайшем будущем не смогу самостоятельно оплачивать жилье, телефон и обеспечивать себя и дочерей. И где нам все-таки жить? Я собиралась забрать дочек, но куда мне их везти? Во Флоренцию, в дом, где они родились, чтобы они обнаружили там милого папу, спокойную маму и решили, что все каким-то волшебным образом вернулось на свои места? Обманывать их, прекрасно зная, что стоит только Нино замаячить на горизонте, и я опять сорвусь к нему? Или сказать Пьетро, чтобы он уходил, хотя инициатором развода была я? Кто из нас должен съехать из квартиры?
В общем, в Геную я приехала с тысячей вопросов и без единого ответа.
Родители мужа встретили меня холодно, но любезно. Эльза мне обрадовалась, хоть и стеснялась немного, а Деде на меня дулась. Я плохо помню квартиру в Генуе, в памяти остался только пронизывавший ее насквозь свет. На самом деле ее многочисленные комнаты были набиты книгами, старинной мебелью, хрустальными люстрами и дорогими коврами, а на окнах висели тяжелые шторы. Светлой была только гостиная, за огромным окном которой расстилалось море и сияло солнце. Я сразу заметила, что дочери чувствуют себя в этой квартире свободнее, чем в собственном доме: они брали что хотели, им никто ничего не запрещал, а с домработницей они разговаривали хоть и вежливо, но приказным тоном – научились у бабушки Аделе. Первые несколько часов они показывали мне свою комнату, хвастались игрушками (таких дорогих от нас с Пьетро они никогда не получали), рассказывали, сколько всего интересного они видели и делали. Деде очень привязалась к дедушке, а Эльза, хоть и без конца обнимала и целовала меня, за каждым пустяком бегала к бабушке, а когда устала бегать, забралась к ней на колени и смотрела на меня, сунув в рот палец. Неужели дочки так быстро научились обходиться без матери? Или на них так подействовали события последних месяцев, что они стали меня бояться? Не знаю. Как бы то ни было, я не отважилась сказать: «Собирайте свои вещи, мы уезжаем». Я решила остаться на несколько дней и заняться дочками. Дед с бабкой не вмешивались в наши дела, более того, когда кто-то из девочек – чаще Деде – задавал им вопрос, чьи правила «главнее», их или мои, они уступали, лишь бы избежать конфликта.
Гвидо особенно старался обходить острые темы и в первые дни ни словом не упоминал о нашем с Пьетро расставании. После ужина, когда Деде и Эльза пошли спать, он из вежливости недолго посидел со мной, прежде чем закрыться у себя в кабинете (он тоже работал до глубокой ночи; эту привычку Пьетро, видимо, перенял у отца). Ему явно было со мной некомфортно, и он, как всегда, спрятался за разговором о политике: завел речь об обострении кризиса капитализма, режиме жесткой экономии, в котором видел панацею, о расширении границ маргинализации, о символическом значении землетрясения во Фриули, отразившем шаткость Италии как государства, о проблемах, с которыми сталкиваются старые левые партии и группировки. Мое мнение его ни в малейшей степени не интересовало; впрочем, я даже не пыталась его сформулировать. Если он и заговаривал обо мне, то лишь для того, чтобы вспомнить мою книгу, итальянское издание которой я впервые увидела в этом доме: тоненький томик в блеклой обложке, лежащий в куче других книг и журналов в ожидании, когда их пролистают. Как-то вечером он начал задавать мне вопросы; я поняла, что книгу он не читал и читать не собирается, и пересказала ему ее содержание, процитировав несколько отрывков. Он слушал меня с серьезным видом, очень внимательно, и раскритиковал фрагмент о Софокле, который я привела не к месту; в его голосе тут же зазвучали профессорские нотки, а мне стало стыдно. Это был человек, так и источавший авторитет, но такой авторитет, который похож на скорлупу: иногда достаточно мелочи, чтобы скорлупа пошла трещинами и из-за нее показался совсем другой человек. Когда я произнесла слово «феминизм», вся сдержанность Гвидо разом улетучилась, в его глазах вспыхнуло злорадство, лицо – обычно бескровно-бледное – покраснело, и он с неприкрытым сарказмом принялся нараспев цитировать где-то слышанные лозунги:«Зеркальце, зеркальце, дай ответ, бывает у женщин оргазм или нет? Нет, им не положено!», «Мы не машины для продолжения рода, мы женщины, борющиеся за свободу». Он возбудился, начал смеяться, но, заметив мое недовольство, схватился за очки, тщательно протер их и ушел к себе, работать.
Аделе в те вечера почти все время молчала, но я понимала, что они с мужем только и ждут случая, чтобы вывести меня на чистую воду. На удочку я не попадалась, поэтому свекру пришлось самому поднимать интересовавший их вопрос. Вечером, когда Деде с Эльзой пришли пожелать нам спокойной ночи, он затеял с ними что-то вроде игры:
– И как же вас зовут, прекрасные синьорины?
– Деде.
– Эльза.
– А дальше? Дедушка хочет слышать имя и фамилию.
– Деде Айрота.
– Эльза Айрота.
– А почему вы Айрота?
– Потому что мы как папа.
– А еще?
– Как дедушка.
– А как зовут вашу маму?
– Элена Греко.
– А вы Греко или Айрота?
– Айрота.
– Вот и умницы! Спокойной ночи, мои милые, сладких снов!
Как только девочки вместе с Аделе вышли из комнаты, он, словно продолжая игру в вопросы и ответы, спросил: «Я узнал, что вы с Пьетро разводитесь из-за Нино Сарраторе. Это правда?» Я вздрогнула и кивнула. Он улыбнулся и похвалил Нино, но без былого восхищения. Сказал, что это очень умный молодой человек, знающий свое дело, хотя – он сделал выразительную паузу – оннестабилен. Он повторил это слово, как будто пробуя его на вкус. «Последние тексты Сарраторе, – подчеркнул он, – мне не понравились». С неожиданным пренебрежением в голосе он назвал его одним из тех, кто спешит научиться вертеть шестеренки неокапитализма вместо того, чтобы продолжать требовать преобразований в социальной и производственной сфере. Каждое его слово звучало оскорблением. Я не выдержала и кинулась доказывать, что он ошибается. Аделе вошла в комнату в тот момент, когда я разбирала тексты Нино, казавшиеся мне наиболее радикальными, а Гвидо слушал, время от времени сдавленно хмыкая: он всегда так делал, когда сомневался, соглашаться с услышанным или нет. С появлением свекрови я разволновалась и замолчала. Свекор, к тому моменту вроде бы смягчившийся («Нам всем непросто ориентироваться в условиях этого идиотского кризиса, накрывшего Италию, а молодым людям вроде Нино, особенно если они пытаются хоть что-то предпринять, особенно нелегко»), встал и собрался идти в кабинет. Но на пороге остановился и сердито сказал: «И все-таки тут еще работать и работать. Сарраторе – это интеллигенция без традиций: ему больше нравится быть угодным тем, кто им командует, чем биться за свои идеи. Из него выйдет очень услужливый исполнитель». На этом он замолчал, не желая доводить свою мысль до конца, буркнул: «Спокойной ночи» – и ушел к себе.
Я почувствовала на себе взгляд Аделе. «Мне тоже надо идти спать, – думала я. – Сказать, что устала…» Но что-то дернуло меня задать Аделе вопрос:
– Что он имел в виду, говоря, что Нино – это интеллигенция без традиций?
Она посмотрела на меня с иронией:
– Что он никто. А тому, кто знает, что он никто, важнее всего в жизни стать кем-то. Поэтому синьору Сарраторе нельзя доверять.
– Тогда и я интеллигенция без традиций.
– И ты, – улыбнулась она. – Тебе тоже нельзя доверять.
Повисла пауза. Аделе говорила спокойно, без эмоций, словно просто констатировала неоспоримый факт. Но я почувствовала себя оскорбленной.
– Что значит – мне нельзя доверять?
– Я вот доверила тебе сына, а как ты с ним обошлась? Если ты любила другого, зачем было выходить замуж?
– Я не знала, что люблю другого.
– Врешь.
Я подумала и согласилась:
– Да, вру, потому что ты требуешь от меня однозначных ответов, а однозначные ответы почти всегда ложь. Ты тоже говорила мне о Пьетро много плохого, настраивала меня против него. Ты что, тоже врала?
– Нет, я действительно была на твоей стороне, но только при условии, что ты будешь выполнять кое-какие правила.
– Какие же?
– Ты должна была остаться с мужем и детьми. Ты была Айрота, твои дети были Айрота. Я не хотела, чтобы ты чувствовала себя чужой и несчастной, я старалась помочь тебе быть хорошей матерью и женой. Но раз ты нарушила мое условие, все меняется. От меня и моего мужа ты больше ничего не получишь. Больше того, я отберу у тебя все, что успела дать.