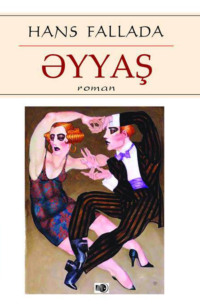Полная версия
Один в Берлине (Каждый умирает в одиночку)
– С чего это вдруг? – спросил Баркхаузен, но шагу прибавил. Ему тоже не терпелось поскорее со всем покончить, дело-то все-таки и для него непривычное. Опасался он не столько полиции или старой жидовки – что может случиться, если он ариизирует ее добро? – сколько Персике. Эти Персике – окаянная, вероломная шайка, они и лучшему корешу в два счета какую-нибудь пакость подстроят. Только из-за Персике он и взял с собой болвана Энно, как свидетеля, которого они не знают, а стало быть, он их притормозит.
На Яблонскиштрассе все прошло гладко, чин чинарем. Примерно пол-одиннадцатого они настоящим, легальным ключом отперли парадное. Потом еще постояли внизу, прислушались, а поскольку все было тихо, включили свет на лестнице и разулись, ведь, как с ухмылкой сказал Баркхаузен, совершенно незачем тревожить ночной покой других жильцов.
Когда свет снова погас, они беззвучно и быстро взбежали вверх по ступенькам, и опять все прошло гладко. Они не совершили ни одной ошибки из тех, что делают новички, – ни на что с грохотом не налетели, ботинки не уронили, нет, без шума добрались до пятого этажа. Итак, лестницу одолели на отлично, хотя ни тот ни другой не были настоящими бандитами, а вдобавок находились в изрядном возбуждении, один – предвкушая фаршированную гусиную шею, другой – из-за добычи и из-за Персике.
С розенталевской дверью все оказалось проще, чем представлял себе Баркхаузен: она оказалась только прихлопнута, на ключ не заперта, так что открылась в два счета. Ох и легкомысленная старушенция, хотя уж ей-то, жидовке, надо быть особенно осторожной! И вот оба уже в квартире – глазом моргнуть не успели, как очутились внутри.
Потом Баркхаузен бесцеремонно зажег свет в прихожей, без малейшего стеснения объявил: «Если старая жидовка будет вякать, уж я ей харю-то надраю!» – как говорил днем Бальдуру Персике. Но она не вякала. И для начала они не спеша осмотрелись в маленькой прихожей, забитой мебелью, чемоданами и ящиками. Понятное дело, при магазине квартира у Розенталей была большая, а когда тебя в одночасье оттуда вышвыривают и ты поневоле ютишься в двух комнатушках с чуланом да кухней, приходится тесниться.
У обоих руки чесались сразу же взяться за дело, все перерыть, обшарить да упаковать, но Баркхаузен решил сперва отыскать Розенталиху и завязать ей рот платком, от греха подальше. Первая комната была до того заставлена, что толком ступить негде, и оба сообразили, что все здешнее добро им и за десять ночей не унести, надо выбирать что получше. Вторая тоже битком набита, как и чулан. Только Розенталиху они не нашли – даже постель не разобрана. На всякий случай Баркхаузен заглянул на кухню и в уборную, но старушенции и там не оказалось, а это называется везуха: хлопот меньше, а работать проще.
Баркхаузен вернулся в первую комнату и начал рыться в вещах. Он и не заметил, что сообщник, Энно, куда-то запропастился. А тот стоял в кладовке, до невозможности разочарованный, потому что никакой фаршированной гусиной шеи там не нашлось, только парочка луковиц да полбуханки хлеба. Но он все-таки принялся за еду, нарезал луковицы кружками, положил на хлеб, с голодухи даже это пришлось ему по вкусу.
И пока Энно Клуге стоял там, жуя хлеб с луком, взгляд его упал на нижние полки, и он вдруг увидал, что у Розенталей, хоть они и остались без харчей, выпивки все ж таки хватает. Внизу стройными рядами стояли бутылки – вино и шнапс. Энно, человек во всех отношениях умеренный, не считая, конечно, игры на бегах, взял бутылочку сладкого вина и поначалу время от времени запивал им свою луковую сухомятку. Одному богу известно, как вышло, что липкое пойло вдруг ему опротивело, ему, Энно, который вообще-то мог три часа сидеть с единственным стаканом пива. Он откупорил бутылку коньяка и быстро тяпнул несколько глотков, за пяток минут ополовинив бутылку. Возможно, перемена случилась с ним от голода или от возбуждения. Есть он совсем перестал.
Затем коньяк ему тоже надоел, и он пошел искать Баркхаузена. Тот по-прежнему шарил в большой комнате, пораскрывал шкафы и чемоданы, а содержимое вывалил на пол, выискивая что получше.
– Слышь, парень, они, кажись, всю бельевую лавку сюда перетащили! – сказал потрясенный Энно.
– Нечего болтать, помоги лучше! – отвечал Баркхаузен. – Здесь наверняка припрятаны драгоценности и деньжата, они же были богачами, Розентали, миллионерами, а ты-то, болван, все про темное дельце толковал!
Некоторое время оба молча трудились, то есть выбрасывали всё новые вещи на пол, и без того уже заваленный одеждой, бельем и утварью, так что приходилось прямо по этому всему ступать башмаками. Наконец крепко захмелевший Энно заявил:
– Все, больше ничего не вижу. Надо мозги прочистить. Принеси-ка, Эмиль, коньячку из кладовки!
Баркхаузен беспрекословно повиновался и вернулся с двумя бутылками, после чего оба в полном согласии уселись на белье и, прихлебывая глоток за глотком, принялись серьезно и основательно обсуждать ситуацию.
– Ясно ведь, Баркхаузен, все барахло быстро не вынесешь, и засиживаться тут слишком долго тоже нельзя. Думаю, каждый возьмет два чемодана, с ними и смоемся. А завтра ночью повторим!
– Да понятно, Энно, засиживаться нам незачем, хотя бы из-за этих Персике.
– Это еще кто такие?
– Да жильцы тутошние… Только вот от одной мысли, что я отвалю с двумя чемоданами бельишка, а третий тут оставлю, с деньжатами и цацками, впору головой об стенку биться. Дай еще маленько поискать, а? Твое здоровье, Энно!
– И твое, Эмиль! Почему бы маленько и не поискать? Ночь долгая, а за свет платить не нам. Я только вот о чем хотел тебя спросить: ты куда двинешь со своими чемоданами?
– Как куда? Ты о чем, Энно?
– Ну, куда ты их понесешь? Небось к себе домой?
– А по-твоему, я их в бюро находок поволоку? Ясное дело, домой понесу, к Отти. А завтра утречком двину прямиком на Мюнцштрассе, загоню всю добычу и опять заживу кум королю!
Энно выдернул из бутылки пробку, послышался чирикающий звук.
– Ты лучше послушай, как наша пташка поет! Будь здоров, Эмиль! Я бы на твоем месте поступил иначе, не пошел бы домой и вообще к жене – на кой бабе знать про твои добавочные доходы? Нет, на твоем месте я бы поступил по-моему, сдал бы вещички на Штеттинском вокзале в камеру хранения, а квитанцию послал бы себе по почте, до востребования. Тогда бы у меня ничего не нашли, и никто бы ничего не доказал.
– Ловко придумано, Энно, – одобрил Баркхаузен. – А когда ты снова заберешь барахло?
– Ну, когда все устаканится, Эмиль, тогда и заберу.
– И на что будешь жить до тех пор?
– Я же сказал, пойду к Тутти. Коли расскажу ей, какую штуку провернул, она меня с распростертыми объятиями примет!
– Блеск, просто блеск! – поддакнул Баркхаузен. – Раз ты пойдешь на Штеттинский, я двину на Ангальтский. Чтобы внимания не привлекать!
– Тоже неплохо придумано, Эмиль, светлая ты голова!
– Пообщаешься с людьми, – скромно сказал Баркхаузен, – так и узнаешь то да се. Век живи – век учись.
– Твоя правда! Ну, будь здоров, Эмиль!
– Будь здоров, Энно!
Некоторое время они молчали, благодушно глядя друг на друга и нет-нет прихлебывая по глоточку. Потом Баркхаузен сказал:
– Если обернешься, Энно, ну, не сию минуту, то увидишь за спиной радио, ламп, поди, штук на десять. Я бы его забрал.
– Так и бери, Эмиль! Радио завсегда сгодится, и для дома, и на продажу! Завсегда сгодится!
– Ладно, тогда давай попробуем затолкать его в чемодан, а белье вокруг распихаем.
– Прямо сейчас или сперва еще по глоточку?
– Можно и еще по глоточку, Энно. Но только по одному!
Они пропускают по глоточку, по второму и третьему, потом медленно встают и изо всех сил стараются затолкать большой десятиламповый приемник в саквояж, куда поместился бы разве что репродуктор. После нескольких настойчивых попыток Энно вздыхает:
– Никак не лезет! Оставь ты это чертово радио, Эмиль, возьми лучше чемодан с костюмами!
– Но моя Отти любит слушать радио!
– Надеюсь, ты не собираешься рассказывать своей старухе про наше дельце? Ты что-то окосел, Эмиль!
– А ты со своей Тутти? Оба вы окосели! Где она, Тутти твоя?
– Пьянствует! Да как, скажу я тебе! – Снова чирикает пробка, покинув бутылку. – Давай еще по глоточку!
– Будь здоров, Энно!
Оба пьют.
– Но радио я все-таки хочу прихватить, – продолжает Баркхаузен. – Раз эта бандура не лезет в чемодан, обвяжу ее веревкой и повешу на шею. Чтоб руки были свободны.
– Давай, старичок. Ну что, собираем манатки?
– Ага, собираем. Пора!
Но оба так и стоят, с глупой ухмылкой глядя друг на друга.
– Если вдуматься, – опять начинает Баркхаузен, – жизнь все-таки хорошая штука. Вон сколько тут отличных вещичек, – он кивает головой, – и мы можем взять что хотим, причем делаем доброе дело, забирая шмотье у жидовки, которая все это наворовала…
– Что верно, то верно, Эмиль, мы делаем доброе дело – для немецкого народа и для фюрера. Зря, что ли, он сулил нам хорошие времена.
– И свое слово фюрер держит, еще как держит, Энно!
Они растроганно, со слезами на глазах глядят друг на друга.
– А что это вы здесь делаете, а? – доносится от двери резкий голос.
Оба вздрагивают: перед ними стоит молодчик в коричневой форме.
Баркхаузен медленно и печально кивает Энно:
– Это господин Бальдур Персике, о котором я тебе говорил, Энно! Начинаются неприятности!
Глава 8
Мелкие сюрпризы
Пока пьяные сообщники вели беседу, в большой комнате собралась вся мужская часть семейства Персике. Подле Энно и Эмиля стоит, сверкая глазами из-за шлифованных линз, жилистый коротышка Бальдур, у них за спиной – два брата в черных мундирах СС, но без фуражек, а ближе к двери, словно не вполне доверяя мирной атмосфере, старый экс-кабатчик Персике. Семейство Персике тоже под градусом, но на них шнапс подействовал совсем иначе, чем на двух взломщиков. Персике не рассиропились, не одурели, они стали еще собраннее, еще алчнее, еще жестче, чем на трезвую голову.
Бальдур Персике резко бросает:
– Ну, живо отвечайте! Что вы здесь делаете? Разве это ваша квартира?
– Но… господин Персике! – плаксиво говорит Баркхаузен.
Бальдур делает вид, будто только сейчас его узнал.
– Ба, это же Баркхаузен из подвальной квартиры во флигеле! – удивленно кричит он своим братьям. – Но что вы здесь делаете, господин Баркхаузен? – Удивление сменяется насмешкой: – Тем более среди ночи? Не лучше ли заняться супругой, доброй Оттилией? Я слыхал, там у вас гулянка идет с приличными господами, а детки ваши до позднего вечера пьяные шатаются по двору. Уложили бы детишек спать, господин Баркхаузен!
– Неприятности! – бормочет тот. – Я сразу смекнул, как только увидал эту очковую змею: неприятности. – Он снова печально кивает Энно.
А Энно Клуге стоит дурак дураком. Тихонько покачивается на нетвердых ногах, уронив руку с коньячной бутылкой, и не понимает ни слова из того, что говорится.
Баркхаузен опять обращается к Бальдуру Персике. Теперь уже не плаксивым, а скорее обличающим тоном, ни с того ни с сего глубоко оскорбившись.
– Коли моя жена поступает не так, как полагается, – говорит он, – то в ответе за это я, господин Персике. Я – муж и отец, по закону. А коли мои дети выпивши, так и вы тоже выпивши, и вы тоже еще ребенок, то-то и оно!
Он со злостью смотрит на Бальдура, Бальдур, сверкая глазами, смотрит на него, а потом незаметно делает братьям знак приготовиться.
– И что же вы делаете здесь, в квартире у Розенталихи? – резко спрашивает Персике-младший.
– Всё в точности, как договаривались! – горячо заверяет Баркхаузен. – Как договаривались. Мы с приятелем сейчас уйдем. Аккурат собирались уходить. Он на Штеттинский, я на Ангальтский вокзал. Каждый с двумя чемоданами, и для вас добра – бери не хочу.
Последние слова он бормочет едва слышно, его одолевает дремота.
Бальдур пристально глядит на него. Пожалуй, можно обойтись без применения силы, оба мужика вдрызг пьяны. Но осторожность прежде всего. Он хватает Баркхаузена за плечо, резко спрашивает:
– А это что за хмырь? Как его звать?
– Энно! – отвечает Баркхаузен заплетающимся языком. – Приятель мой, Энно…
– И где проживает твой приятель Энно?
– Не знаю, господин Персике. Мы по пивнушке знакомы. В забегаловке закорешились. В пивном ресторанчике «Очередной забег»…
Бальдур решился. Неожиданно он кулаком бьет Баркхаузена в грудь, отчего тот с тихим воплем падает навзничь, на мебель и белье.
– Ах ты, зараза! – орет Бальдур. – Как ты смеешь называть меня очковой змеей? Я тебе покажу, какой я ребенок!
Но ругань его не достигает цели, оба уже ничего не слышат. Подскочившие братья-эсэсовцы успели вырубить каждого сокрушительным ударом по голове.
– Та-ак! – удовлетворенно изрекает Бальдур. – Через часок сдадим эту парочку в полицию как взломщиков, взятых с поличным. А до тех пор приберем все, что может нам пригодиться. Только на лестнице не шуметь! Я послушал, но не слыхал, чтобы старик Квангель вернулся с ночной смены.
Братья кивают. Бальдур смотрит сперва на оглушенных окровавленных взломщиков, потом на чемоданы, белье, радиоприемник. И вдруг с улыбкой оборачивается к отцу:
– Ну, папаша, ловко я провернул это дельце? А ты вечно трусишь! Глянь…
Он не продолжает. Вопреки ожиданию в дверях стоит не отец: отец исчез без следа. Вместо него там стоит сменный мастер Квангель, человек с угловатым, холодным птичьим лицом, темные глаза молча глядят на Бальдура.
С ночной смены Отто Квангель возвращался пешком – хотя из-за недовыполненной нормы пришлось сильно задержаться, садиться на трамвай он не стал, незачем зря деньги тратить, – и, подойдя к дому, заметил, что, несмотря на приказ о светомаскировке, в квартире фрау Розенталь горит свет. А присмотревшись, обнаружил, что свет горит и у Персике, и этажом ниже, у Фромма, в щелки по краям штор было видно. У советника апелляционного суда Фромма (никто в точности не знал, почему он в тридцать третьем вышел на пенсию – по возрасту или из-за нацистов) свет вообще-то всегда горел далеко за полночь, так что удивляться нечему. А Персике небось до сих пор отмечают победу над Францией. Но чтобы старушка Розенталь палила свет, да еще во всех комнатах и в открытую, – не-ет, что-то здесь нечисто. Старушка до смерти запугана, она бы нипочем не стала устраивать у себя этакую иллюминацию.
Что-то здесь нечисто! – думал Отто Квангель, отпирая парадное и медленно поднимаясь по лестнице. По обыкновению, свет он включать не стал, поберег деньги, не только свои, но и домовладельца. Что-то здесь нечисто! Но мне-то какое дело до этих людей? Я живу сам по себе. С Анной. Нас всего двое. Вдобавок, может, гестапо аккурат сейчас проводит там обыск. То-то будет здорово, если я туда заявлюсь! Нет, пойду спать…
Однако его щепетильность, обострившаяся от упрека «ты и твой фюрер» чуть ли не до чувства справедливости, противилась этому умозаключению. С ключами в руках он, запрокинув голову, застыл в ожидании у своей двери. Дверь наверху не иначе как распахнута настежь: там виднелся тусклый свет и слышался чей-то резкий голос. Старая женщина, совсем одна, вдруг, к собственному удивлению, подумал он. Без всякой защиты…
И в этот миг из темноты вынырнула маленькая, но сильная мужская рука, схватила его за куртку и повернула к лестнице. Очень вежливый, интеллигентный голос произнес:
– Идите первым, господин Квангель. Я последую за вами и появлюсь в надлежащий момент.
Без колебаний Квангель пошел вверх по ступенькам, такая сила убеждения была в этой руке и в этом голосе. Наверняка старый советник Фромм, подумал он. Скрытный тихоня. По-моему, за все годы, что живу здесь, я видел его при свете дня меньше двух десятков раз, а сейчас вот шныряет по лестницам среди ночи!
С такими мыслями он без колебаний поднялся наверх и подошел к розенталевской квартире. А попутно успел заметить, что при его появлении какая-то упитанная фигура – должно быть, старикан Персике – поспешно ретировалась на кухню, и услыхал последние слова Бальдура насчет дельца, которое они провернули, и насчет того, что нельзя вечно трусить… Теперь оба, Квангель и Бальдур, молча стояли глаза в глаза.
На секунду даже Бальдур Персике решил, что все пропало. Но затем вспомнил один из своих жизненных принципов: наглость побеждает – и слегка вызывающе проговорил:
– Что, не ожидали? Опоздали вы немножко, господин Квангель, это мы поймали и обезвредили взломщиков. – Он сделал паузу, но Квангель молчал. И уже потише Бальдур добавил: – Кстати, один из этих ворюг, кажется, Баркхаузен из дворового флигеля, его баба мужиков домой водит, а он терпит.
Взгляд Квангеля последовал за указующим перстом.
– Верно, – сухо сказал он, – один из ворюг вправду Баркхаузен.
– И вообще, – неожиданно вмешался эсэсовец Адольф Персике, – чего вы тут стоите да глаза пялите? Можете спокойно сходить в участок и сообщить о грабеже, пускай заберут этих типов! А мы тут постережем!
– Помолчи, Адольф! – сердито прицыкнул Бальдур. – Нечего командовать господином Квангелем! Господин Квангель сам знает, что ему делать.
А этого-то Квангель сейчас и не знал. Будь он один, он бы немедля принял решение. Но была ведь еще и рука на груди, и вежливый мужской голос; он понятия не имел, что задумал старый советник, чего от него ждал. Не хочется портить ему игру… Знать бы только…
Как раз в эту минуту старый советник и появился на сцене, но не рядом с Квангелем, как тот ожидал, а из глубины квартиры. Внезапно, словно призрак, повергнув Персике в еще больший ужас.
Кстати, выглядел старый советник весьма своеобразно. Изящная невысокая фигура закутана в шелковый черно-синий халат с красным шелковым кантом, застегнутый на большие красные деревянные пуговицы. Седая бородка, на верхней губе короткая щеточка седых усов. Сильно поредевшие, еще темноватые волосы тщательно уложены на темени, однако не вполне прикрывают бледную плешь. Под узкими очками в золотой оправе среди тысяч морщинок весело блестят насмешливые глаза.
– Н-да, судари мои, – непринужденно произнес он, как бы продолжая давно начатую и весьма удовлетворяющую всех беседу. – Да, судари мои, госпожи Розенталь в квартире нет. Но, быть может, один из молодых Персике благоволит пройти в туалет. Ваш батюшка, кажется, чувствует себя не очень хорошо. Во всяком случае, он то и дело пытается повеситься там на полотенце. Я не сумел его отговорить…
Советник улыбается, но старшие братья Персике бросаются прочь из комнаты с почти комической прытью. Младший Персике побледнел как полотно и совершенно протрезвел. Старый господин, который только что вошел в комнату и говорит с такой иронией, – даже Бальдур сразу признает превосходство этого человека. Оно ведь не наигранное, а самое настоящее. И Бальдур Персике почти умоляюще произносит:
– Понимаете, господин советник, отец, что греха таить, вдрызг пьян. Капитуляция Франции…
– Понимаю, конечно же понимаю, – отвечает старый советник, жестом успокаивая его. – Все мы люди, хоть и не все спьяну лезем в петлю. – Секунду он молча улыбается. Потом добавляет: – Он еще много чего наговорил, но кто станет обращать внимание на болтовню пьяного? – И опять улыбается.
– Господин советник! – просит Бальдур Персике. – Не откажите в любезности, возьмите это дело в свои руки! Вы были судьей и знаете, что необходимо предпринять…
– Нет-нет, – решительно отказывается советник. – Я стар и болен. – Однако по виду не скажешь. Напротив, вид у него цветущий. – И живу очень уединенно, почти не поддерживаю связи с миром. Но вы, господин Персике, вы и ваша семья как раз и накрыли взломщиков. Вот и передайте их полиции и позаботьтесь, чтобы из квартиры ничего не пропало. Я тут быстренько осмотрелся и составил себе некоторое представление. Насчитал, например, семнадцать чемоданов и двадцать один ящик. И многое другое. И многое другое…
Он говорит все медленнее. Все медленнее. И теперь как бы невзначай роняет:
– Смею предположить, что поимка взломщиков принесет вам и вашему семейству почести и славу.
Советник умолкает. Бальдур напряженно размышляет. Вон как можно все обтяпать – ох и старая лиса этот Фромм! Наверняка все понял, наверняка папаша проболтался, но покой советнику дороже, не полезет он в такие дела. С этой стороны опасность не грозит. А Квангель, старый сменный мастер? Соседи по дому никогда его не интересовали, он никогда ни с кем не здоровается, ни с кем не разговаривает. Обычный старый работяга, тощий, замотанный, ни одной собственной мысли в голове. Навряд ли он станет без нужды нарываться на неприятности. Так что тем более не опасен.
Остаются двое пьяных болванов, что валяются на полу. Можно, разумеется, передать их полиции и откреститься от всего, что Баркхаузен сообщит, к примеру, о подстрекательстве. Ему определенно не поверят, если он даст показания против членов партии, СС и гитлерюгенда. А уж тогда можно обо всем уведомить гестапо и, пожалуй, вполне законно получить часть этих вот вещей, которые в противном случае удалось бы присвоить лишь нелегально и здорово рискуя. Вдобавок тебе еще и спасибо скажут.
Заманчивый вариант. Хотя, наверно, до поры до времени все-таки лучше про это забыть. Намять бока Баркхаузену и этому Энно, сунуть им марку-другую и отпустить. Они определенно болтать не станут. Квартиру запереть как есть, не важно, вернется Розенталиха или нет. Глядишь, позднее что-нибудь да получится – чутье подсказывает ему, что курс против евреев еще ужесточится. Набраться терпения и ждать. Что сейчас нельзя, то через полгода, глядишь, станет можно. Сейчас они, Персике, малость оплошали. Разбирательство против них вряд ли станут затевать, но сплетни в партии пойдут. И прослывут они не вполне благонадежными.
– Я бы отпустил их обоих, – говорит Бальдур Персике. – Жалко мне этих голодранцев, господин советник.
Он оглядывается по сторонам – рядом никого. И советник, и сменный мастер ушли. Как он и думал: не хотят они иметь касательства к этому делу. Умно, ничего не скажешь. Он, Бальдур, поступит так же, братья могут браниться сколько угодно.
Глубоко вздохнув обо всех этих прекрасных предметах, от которых приходится отказаться, Бальдур собирается на кухню, чтобы образумить отца и убедить братьев положить все взятое на место.
Советник меж тем говорит на лестнице сменному мастеру Квангелю, который следом за ним молча вышел из комнаты:
– Если у вас, господин Квангель, возникнут неприятности из-за госпожи Розенталь, обратитесь ко мне. Доброй ночи.
– Какое мне дело до Розентальши? Я ее знать не знаю! – протестует Квангель.
– Доброй ночи, господин Квангель! – И советник апелляционного суда Фромм уходит вниз по лестнице.
Отто Квангель отпирает дверь своей темной квартиры.
Глава 9
Ночной разговор у Квангелей
Как только Квангель открывает дверь в спальню, жена Анна испуганно восклицает:
– Не включай свет, отец! Трудель спит на твоей кровати. Тебе я постелила в той комнате на диване.
– Хорошо, хорошо, Анна, – отвечает Квангель, удивляясь, почему это Трудель непременно надо спать на его кровати. Раньше-то спала на диване.
Но он не говорит ни слова, раздевается, укладывается под одеяло на диван и лишь тогда спрашивает:
– Ты уже спишь, Анна, или поговорим немножко?
Секунду она медлит, потом отвечает в открытую дверь спальни:
– Устала я, Отто, сил нет.
Значит, она еще сердится на меня, только вот почему? – думает Отто Квангель, но говорит все тем же тоном:
– Ладно, тогда спи, Анна. Доброй ночи!
От ее кровати доносится:
– Доброй ночи, Отто!
И Трудель тоже тихонько шепчет:
– Доброй ночи, папа!
– Доброй ночи, Трудель! – отвечает он и поворачивается на бок, с одним-единственным желанием – поскорее заснуть, потому что очень устал. Но, пожалуй, он слишком устал, как иной раз можно слишком изголодаться. Сон не приходит. Долгий день с бесконечным множеством событий, день, какого в жизни Отто Квангеля никогда еще не бывало, остался позади.
Но день этот ему совсем не по душе. Мало того что все события, в сущности, были неприятными, не считая разве только освобождения от должности в «Трудовом фронте», он ненавидит эту суету, эту необходимость говорить со всякими-разными людьми, которых всех до единого терпеть не может. Еще он думает о письме с извещением о смерти Оттика, которое вручила ему Эва Клуге, думает о шпике Баркхаузене, который так неуклюже пытался его одурачить, о коридоре на шинельной фабрике, с колышущимися от сквозняка плакатами, к которым Трудель прислонялась головой. Думает о якобы столяре Дольфусе, этом мастере перекура, снова звякают медали и ордена на груди коричневого оратора, снова из темноты хватает его за грудь крепкая маленькая рука отставного советника апелляционного суда Фромма, подталкивает к лестнице. Вот молодой Персике в блестящих сапогах стоит среди белья и все бледнеет, а в углу хрипят и стонут окровавленные пьянчуги.