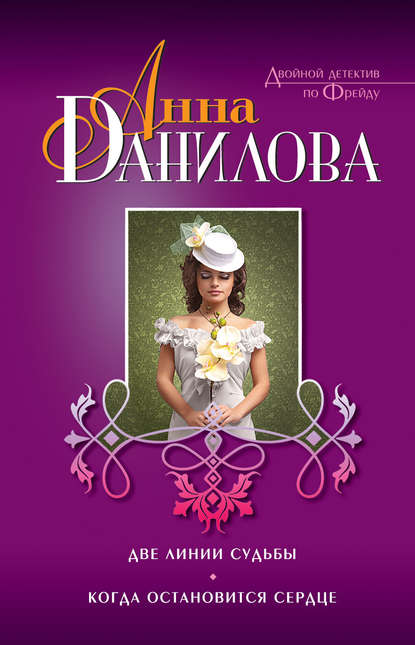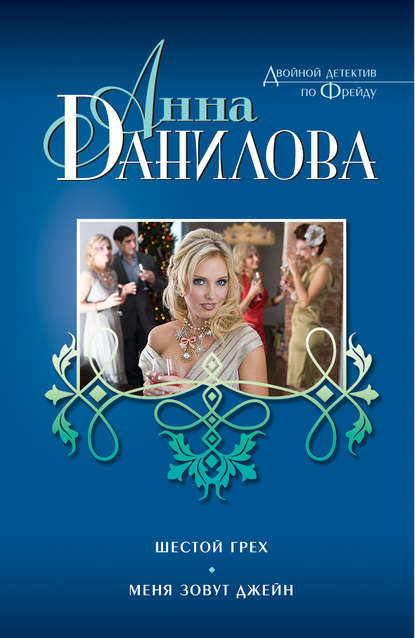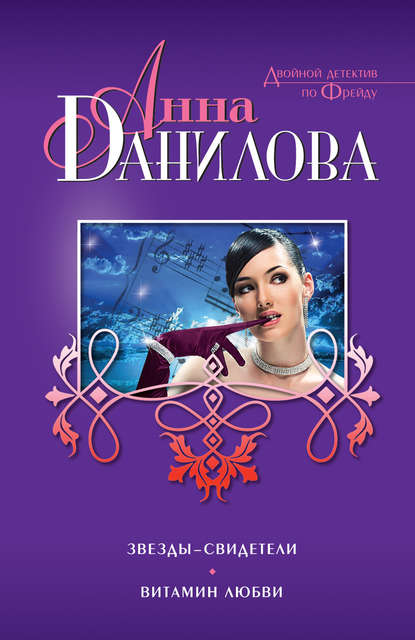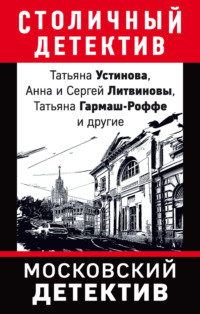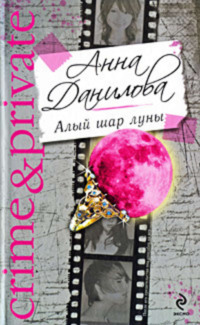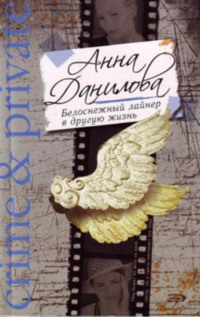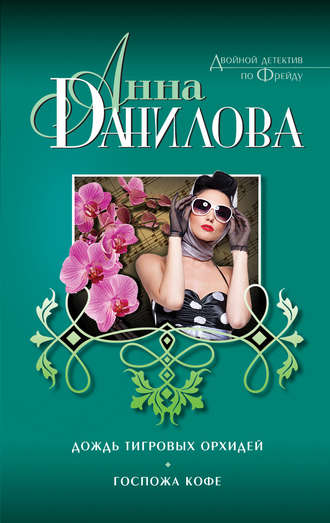
Полная версия
Дождь тигровых орхидей. Госпожа Кофе (сборник)
Дверь открыл голый молодой мужчина и со словами: «Гера, детка, ты что-то забы…» – онемел. С мокрой головой и полотенцем в руках, он впустил в квартиру Хорна. Квартира была огромная, захламленная, в ней пахло дымом сигарет, водкой, потом, мылом – словом, всем, чем угодно, только не красками, как пахнет обычно в мастерских. В дальней комнате, на широкой постели, он нашел еще одного голого парня, который, увидев в дверях взбешенного побелевшего Хорна, даже не пошевелился для того, чтобы прикрыть свою отвратительную наготу. Не надо было обладать буйной фантазией, чтобы представить, как эти двое забавлялись с Герой. Картина, возникшая в воображении Миши, представляла собой фрагмент яростного процесса совокупления двух поросших обезьяньей шерстью молодых мужчин с очень белой, словно присыпанной пудрой, черноволосой женщиной, извивающейся в угоду их неутомимой плоти, скользящей в горячих устьях, подаренных им Герой. Хорн даже слышал сухие, шершавые звуки, сопровождающиеся неестественно учащенным тройным, почти в унисон, дыханием на фоне маслянисто-механических вакуумных ударов. Далее чья-то услужливая невидимая рука воображения повела его в ванную комнату, где эти трое мылись, похохатывая над резвостью Геры, пускающей пузыри припухшими, потемневшими, искусанными губами; четыре мохнатые руки скользили по ее гибкому, в мыльной пене, хрупкому телу, которое, не успев остыть от зуда желания, вновь было готово продолжить изнуряющие и сложные игры проникновения в ее женскую, животную – в этом Хорн уже не сомневался – сердцевину. Потом они ее, наверно, одевали, как беспомощную, уставшую от забав девочку, заполняя ее ослабевшими тонкими ногами прозрачное пространство чулок, застегивая на ней крючочки, пуговички, шлепая туго натянутыми резинками по ее талии и расправляя на ней мягкие складки шерстяного костюма, а затем выпроводили ее наконец на лестницу, прямо в зубы озверевшему Хорну.
Миша хотел спросить, кто же из них Дождев, но подумал, что теперь это уже не имеет никакого значения. Первым его желанием, после того как он оставил эту страшную, пропитанную дурными запахами квартиру, было убить Геру. Но уже к вечеру это прошло. Он убрал в чемоданы ее вещи и отвез их к ней на квартиру, ничего не объяснив и даже не посмотрев ей в глаза. А пустоту и горечь, облаченные в неприязнь к женщинам в целом, Хорн растворил в работе, постепенно вытравляя Геру из своей жизни. Но самое удивительное заключалось в том, что после происшедшего Хорн, словно влекомый ароматом синтетического мазохизма, стал ходить на все художественные выставки, чтобы увидеть картины Дождева. Мазохизм в том же смысле, что и боль, которую, как любой нормальный человек, должен был чувствовать любовник Мишиной жены, заключивший Геру в деревянную рамку портрета – а Миша был уверен, что Дождев запечатлел его жену именно в момент захлебывающейся страсти, – должна была принести какое-то успокоение. Это было сложное чувство, замешенное на неуверенности в себе, в котором не так уж и просто себе признаться, и, конечно, на ревности в ее чистом виде. Тем более что услужливая память подсказала ему, что, кажется, кто-то из его окружения уже говорил ему в свое время, а он просто в силу занятости не обратил на это внимания, что Дождев – талантливый художник, больше того – его картины очень ценятся и стоят немалых денег. Однако, гуляя по выставочным залам музеев и выискивая взглядом на картинах прежде всего подпись автора, фамилию Дождева Хорн так и не встретил. Дождев не выставлялся, а это означало: либо Хорн что-то спутал, либо художник зелен, неопытен, а может, и вовсе бездарен.
Танец закончился, Маша, чтобы как-то заполнить тишину, вдруг неожиданно для себя сказала:
– Завтра у меня в училище концерт, в пять. Я буду играть Шопена, мне нужно, чтобы в зале присутствовал кто-то не из своих, вы меня понимаете? Придете?
Хорн притянул ее ладошку-лапку к своим губам и торжественно пообещал прийти. Маша позволила ему поцеловать ее руку, после чего Миша вернул девушку родителям. Когда он, попрощавшись с ней благодарным взглядом, отошел от столика, Маша сказала матери:
– Я пригласила Мишу завтра на концерт.
Руфинов, услышав это, пожал плечами:
– Он хороший парень, толковый. С ним я бы мог отпускать тебя хоть куда, если он тебе, конечно, нравится.
Ольга, внимательно выслушав мужа, хмыкнула:
– Но ведь он же скоро уедет вслед за отцом. Вот увидишь.
– Мама, ну не замуж ведь я собралась, что ж ты меня пасешь, как козу?!
Мама приехала неожиданно. Она всегда появлялась неожиданно и вносила в их размеренный ритм жизни некую праздную суету, беспорядок, который радует, но в то же время настораживает: что она выкинет на этот раз? То, что она могла свободно появиться где угодно, даже в квартире Марты, уже не удивляло. Удивительны были темы ее разговоров, ее идеи, планы. Лиза Дождева, в девичестве Лайфер, никогда и нигде не работала. Она считала, что ее предназначение – быть рядом с мужчиной, который, разумеется, должен ее содержать. С ней никто не спорил, поскольку это была бы пустая трата времени и нервов. Профессиональная бездельница, она действительно была создана для того, чтобы сопровождать мужчину. До замужества она «сопровождала» многих талантливых людей города: главного архитектора, писателя Страшнова, композитора Орехова и других. Они водили ее в рестораны, на вечеринки, в театр, консерваторию и другие людные места, где Лиза могла показать себя, свое очередное вечернее платье и своего очередного мужчину. Почему она вышла замуж за Дождева, никто не знал. Даже сам Дождев. Просто встретились в филармонии, познакомились, оказались вместе на банкете в честь какой-то знаменитости, а потом Дождев сделал ей предложение. И, к обоюдной радости, оказалось, что Лиза – превосходная жена, заботливая, нежная и очень чувствительная. Неуемная натура, она постоянно придумывала какие-то домашние праздники, на которые приглашала своих бывших любовников – Дождев подозревал, что и настоящих, – подруг, просто интересных людей, и была очень похожа в этом на героиню чеховской «Попрыгуньи».
Когда Дождев понял, что никакой скрипач из него не получится и что настраивать инструменты – единственный приемлемый для него способ зарабатывать на жизнь, он очень боялся, что Лиза бросит его. Но этого не произошло. Общительная и очень энергичная, Лиза стала находить ему клиентуру, причем в таких количествах, что бедный Сергей Петрович иногда приходил домой затемно. Зато в доме всегда были деньги, а это вселяло в молодого мужчину чувство уверенности. Когда родился Митя, Лиза, не желая изменять своим привычкам, быстро нашла ему недорогую няню, и все проблемы, связанные с маленьким ребенком, были враз решены. Она не обращала внимания на явное осуждение ее поступка подругами, пытаясь внушить им при случае, что многие семьи распадаются как раз по причине бытовой неустроенности и невнимательного отношения жены к мужу.
– Маленькие дети все равно ничего не понимают. Они, как щенки, пьют молоко и знай себе спят и растут. А вот когда подрастут, то по-настоящему оценят, как их все любили, любят и будут любить до самой смерти, ведь климат в семье – это самое главное.
Когда Лиза поняла, что Митя вырос и самое его большое желание – рисовать, она категорически сказала:
– Нет! Мужчина должен зарабатывать не кистью, а мозгами и талантом.
– Лиза, а что, если он талантлив?
– Художник – это ремесленник, а я не хочу, чтобы мой сын занимался этим грязным ремеслом. Это же тонны краски, угля, бумаги, растворителей разных, это вонь и вообще бесперспективно!
Она прятала от маленького Мити краски, бумагу и выдавала ровно столько, сколько требовалось для занятий рисованием в школе. Но Митя начинал рисовать зубной пастой по стеклу, мелом на дверях, на полу. Казалось, он делал это инстинктивно.
Однажды, под Новый год, когда Мите было уже тринадцать лет, в дверь позвонили. Все были дома. Сергей Петрович пошел открывать. Вернулся он с огромной деревянной коробкой с металлическими трубками, поставил тяжесть на пол и пожал в растерянности плечами.
– Что это? – задыхаясь, проговорила Лиза, и ноздри ее маленького розового носика стали раздуваться, а из горла вырвалось нечто похожее на сдавленный вскрик. – Это ты? Скажи, это ты, Дождев, принес? – Она ткнула Сергея Петровича пальцем в грудь и приблизила к нему свое пылающее ненавистью лицо.
– Я открыл, там это стояло.
Он всегда оправдывался и имел при этом жалкий вид. Но Митя, который в подобных обстоятельствах всегда защищал отца одним взглядом, сообщавшим, что он на его стороне, что они союзники, на этот раз схватил подарок и от счастья не мог вымолвить ни слова. Он-то знал, что это такое, что это этюдник, настоящий, большой, новый и прекрасный. От него сладко пахло деревом и лаком, сразу же захотелось куда-нибудь с ним уйти, где красиво, светло, и тотчас отразить все это на бумаге, холсте, на чем угодно. Ему, в его жизни, полной фантазий и нерастраченной энергии, так не хватало этюдника, что только спустя несколько дней он догадался, кто же ему принес это чудо, он подошел к отцу и обнял его.
Зато после этого в семье начались скандалы. Беспричинные, тяжелые, со слезами и надрывом. Лиза ходила по дому в халате, придиралась ко всему, много спала, смотрела все подряд по телевизору, перестала приглашать гостей и ни к кому не ходила сама. Что-то с ней случилось. Она ушла из супружеской спальни и устроила себе спальное место – иначе не назовешь – в большой комнате на кожаном диване, оставшемся ей в наследство от отца вместе с квартирой и прочей мебелью. Теперь она мыла голову один раз в неделю – хотя раньше мыла каждый день и убеждала всех при этом, что от этого волосы растут быстрее, – отчего ее густые светлые волосы приобрели тусклый оттенок, она безжалостно затягивала их в тугой узел на затылке, словно всем своим видом хотела сказать: «Знаете, а мне все равно».
Она, опять же беспричинно, рассорилась со многими своими подругами, скорее всего из желания не видеть рядом с собой злорадствующих свидетельниц своей длительной депрессии, причину которой знала она одна и ни с кем не желала этим делиться. Она, неглупая, в сущности, женщина, прекрасно понимала, что все то время, когда ей было хорошо и покойно на душе, воспринималось подругами не иначе как вызов женщины, живущей не по общепринятым правилам. Да, она не давилась в городском транспорте, чтобы добраться до обязательной в нашем государстве работы и, отработав восемь часов, за которые успеешь поскандалить с начальством, выслушать и проглотить едкий ком оскорблений от сотрудников – в особенности от сотрудниц, – потом возвращаться в переполненном автобусе или трамвае под прицелом чужого локтя. Поэтому теперь их очередь. Словом, Лиза находила бесконечные причины и предлоги, пока приятельницы не оставили ее в покое совсем, и погрузилась в такую глубокую смурь, из которой ее могло вытянуть лишь нечто из ряда вон выходящее. И таким «из ряда вон» явилось письмо, голубой конверт с разноцветными марками, который она в присутствии сына – мужа дома не было – распечатала и прочитала. Митя заметил, как стало меняться выражение ее лица, она даже порозовела, уселась поудобнее на диван и перечитала письмо еще несколько раз, издавая тихие радостные стоны. Глаза ее повлажнели, и Митя, от которого она не могла скрыть своей радости, понял, что произошло что-то очень важное, и смутно почувствовал надвигающиеся перемены. С того дня Лиза стала непредсказуемой. Первое, что она сделала, это пошла этим же вечером в парикмахерскую и привела в порядок волосы. Старый заношенный халат, который Сергей Петрович в шутку называл «обломовским», она выбросила в мусоропровод, туда же улетели рваные чулки, стоптанные домашние тапки, два ситцевых фартука и зеленая, как мертвый детеныш крокодила, мочалка, а также прозрачные, как застывшие вытянутые мыльные пузыри, бутылки из-под кока-колы и минеральной воды – словом, все то, что копилось эти два года и ждало этого символического полета, означавшего начало новой эры в их семейной жизни. Лиза сожгла все старые книги, журналы, газеты, побелила потолки, пригласила мастеров, которые оклеили обоями все стены, купила рыжий, под паркет, линолеум и как ни в чем не бывало вернулась в супружескую постель.
Она наметила культурную программу, подружилась с распространительницей билетов – бесцветной, похожей на престарелую Жанну д’Арк особой, – привела Митю в магазин-салон, где купила ему столько красок, угля, темперы и прочего цветного богатства, сколько он смог унести, и стала вновь радоваться жизни.
Отец с сыном избегали, даже оставаясь дома вдвоем, обсуждать эту тему – резкую перемену, произошедшую с матерью. Они были безмерно счастливы, хотя один и тот же вопрос зависал в воздухе, как упорно вывязываемая пауком на излюбленном месте паутина: откуда деньги? Дождев, потерявший большую часть клиентуры, которую составляло окружение жены, явно страдал из-за отсутствия денег, а спросить жену прямо, в лоб, не мог. Боялся чего-то. Он теперь каждую ночь обладал молчаливой и покорной женщиной, неутомимой и страстной, таинственной и ускользающей, и теперь, быть может, просто боялся снова ее потерять?
Он размышлял: «Любовник?» Митя говорил, что мама весь день дома, ей даже никто не звонит, а если она куда и выходит, то на рынок или в булочную, отсутствует недолго, да и полные сумки говорят сами за себя. К тому же – и Дождев знал это на собственном опыте, – когда у Лизы появлялся любовник, она не позволяла ему даже прикасаться к себе, ссылаясь на недомогания и находя тысячи отговорок. Лизу, однако, в городе знали и рано или поздно ее увидели бы с кем-нибудь на улице и непременно доложили бы мужу. Значит, что-то другое. Но Лиза явно сорила деньгами, источник которых так и остался окутанным туманом. Лиза молчала и, казалось, даже забавлялась неведением домашних. Митя очень любил мать, но пришел к выводу, что жить с такой женщиной, как она, он бы не смог, поэтому жалел отца и поклялся себе никогда не жениться.
Однажды Лиза не пришла домой. Не было ее и на следующий день. Сергей Петрович сидел на кухне, смотрел в окно на проезжающие машины и ждал. Он ждал долго. Пока не пришло письмо. Голубое, с разноцветными марками. Из Австрии. Лиза ничего не объясняла, сообщила только, что ей захотелось на время сменить обстановку, что скоро к ним придет человек и принесет деньги. «Я скоро приеду». Но ее не было четыре года. Она регулярно писала письма, говорила, что скучает, но приехать пока не может, «так получилось». Конечно, здесь уже явно был замешан мужчина.
– Она сошла с ума, – говорил Сергей Петрович.
Деньги приносил мужчина средних лет. Митя видел этого мужчину в консерватории, а потом на концерте в филармонии, он играл на флейте. За эти годы Митя успел закончить художественное училище. Дождев пытался познакомиться с женщинами, чтобы понять, почему его, еще не старого и довольно симпатичного мужчину, бросили. Результат его встреч с женщинами был приблизительно одинаков: одно свидание, а за ним добровольный домашний арест. Митя понимал, что после свиданий отец просто избегает дам, с которыми встречался. Постоянное сравнивание, очевидно, лишало его покоя: он явно искал подобие Лизы. Но Лиза такая была одна – неповторимая, невозможная, сумасшедшая, жестокая.
И все же она приехала, позвонила, назначила встречу в ресторане. Сергей Петрович почти час провозился с новым галстуком, который никак не хотел завязываться, и опоздал на пять минут. Увидел ее, сел за столик, и такая невыразимая тоска охватила его, что он обхватил голову руками и беззвучно заплакал.
– Да ну тебя, Серж, нашел время и место! – Она была в красном платье и черном жакете. От нее пахло Австрией. Что это был за запах, Дождев точно определить не мог, но было что-то в этом аромате горьковато-карамельно-ядовитое, чужое, острое, как шпили готических соборов или четвертные паузы на моцартовских партитурах. – Мне нужен развод. – Она сказала это так, словно в этот момент ей сделали укол и она скривилась от боли. Возможно, она ожидала сцены, но ведь нужно достаточно хорошо знать своего мужа, чтобы суметь предугадать его дальнейшие действия.
– Ты выходишь замуж? – Дождев вытер слезы и запил свое горе ледяной минеральной из Лизиного, со следами розовой помады бокала.
– Да.
– За кого?
– За Глеба.
Он почему-то сразу понял, что речь идет о ее бывшем любовнике, Глебе Боброве, первой скрипке симфонического оркестра местной филармонии. Тогда при чем же здесь Австрия? Она что, все эти годы жила у Боброва на даче и там клеила иностранные марки на голубые конверты? А деньги? Откуда такие деньги? Чтобы уточнить, он все же спросил:
– Бобров?
– Да.
– А где же ты была четыре года?
Она снова поморщила нос и вздохнула, в нетерпении барабаня холеными пальцами по столешнице.
– Ну и зануда же ты, Дождев! Пойми, там я жила совершенно другой жизнью. Столько важного произошло за это время, всего не расскажешь. Ты прости меня, Сережа, но мне сейчас некогда, сейчас придет Глеб, и мне бы не хотелось, чтобы он видел нас вместе.
– Но ведь ты моя жена!
– Я? – Она отпила воды и усмехнулась, словно при ней спороли непростительную чушь. – Я сама по себе, понял? Была возможность пожить по-другому. Жизнь-то у нас одна. Это же так просто!
– Ты ничего не спрашиваешь о Мите.
– Я все знаю. – Она улыбнулась наконец, как прежняя Лиза, и глаза ее заблестели. – За ним тут присматривали, пока он учился. Кстати, у него теперь есть сестренка, ее зовут Габриэль.
Дождеву показалось, что все это ему снится, и он закрыл глаза. Нет, даже во сне нельзя быть такой легкомысленной! Между тем она продолжала, невозмутимо и деловито:
– Квартира ваша, я не претендую, могу подписать любые бумаги. Даже нотариуса пришлю. Не переживай. Видно, судьба у меня такая.
Вот этого Дождев не любил. Он терпеть не мог разговоров о судьбе и всегда считал, что человек сам себе хозяин. У него, пожалуй, впервые в жизни кончилось терпение. Он схватил со стола хрустальный бокал и швырнул его. Раздался звон, возможно, стакан задел что-то хрустальное на соседнем столике, этого он уже не помнил. Последнее, что он сказал, замерев на мгновение и прислушиваясь к хрустальному звону, было:
– Фа диез второй октавы.
Приблизительно месяц у него ушел на осознание происходящего, но теперь-то хотя бы было все ясно: Лиза ушла к Боброву. Он иногда встречал их на улице, здоровался и проходил мимо. Лиза первая стала заходить.
– Пришла вот вас навестить, моих птенчиков.
По-прежнему помогала деньгами. К тому, чем занимался Митя, относилась ровно, отмечая вслух, что у него «необыкновенное чувство цвета и хорошо получаются теплые тона». Иногда даже засиживалась допоздна, пока не звонил Бобров, и Лиза – бывали случаи, что даже с явным сожалением, – уходила, чуть не плача.
А потом появилась Марта, но Лиза продолжала приходить. «Мы же цивилизованные люди». Они втроем пили чай на кухне. Митя там не появлялся – не мог. Ему было стыдно перед отцом и Мартой. Что касается отца – здесь объяснения не нужны. А вот Марта. Ей казалось, что Митя не любит ее из-за ее хромоты. Но это было не так. Даже наоборот! Ему нравилась ее походка и этот страшный розовый шрам на пятке, который он видел в минуты близости и который так возбуждал его. Но ведь она его мачеха. Он не должен ее обнимать, разве что на Пасху. Обнимать и целовать. Он чувствовал, что обманывает ее, ведь она может его страсть принять за любовь, а потом, разочаровавшись, страдать и страдать бесконечно. Марта – существо тонкое, нежное и требующее внимания к себе не только как к женщине, но и как к личности. Митя это хорошо понимал. Но она была женой отца, и то, что они обкрадывали его и подло обманывали, не давало ему покоя. Но и сказать: «Марта, не приходи», – он тоже не мог. Он запутался, а поговорить об этом было не с кем. Митя ждал, что вот сейчас уже произойдет нечто такое, что сразу расставит все на свои места, но время шло, ничего не менялось, и Марта по-прежнему приходила к нему в мастерскую и в дачную спальню – туда, где был Митя.
Поэтому, увидев у калитки маму, он, как в детстве, кинулся ей навстречу. Обнял ее – она стала ниже его на целую голову – и зарылся лицом в ее мягкие светлые кудри.
– Малышка моя, я привезла тебе такие чудесные белила и кисти, что ты удивишься. И еще лак необыкновенный. Я тебе позже переведу инструкцию. И еще много чего. – Она говорила быстро и много, но было ясно одно: она здесь, она еще только приехала и, возможно, останется здесь на ночь.
Маленькая квартирка Марты, расположенная рядом с театром в густозаселенном доме, где жили в основном артисты и музыканты, была тем тихим уголком, где можно было пережить душевные бури, все обдумать или просто отоспаться. В ней Дождевы жили все холодное время, а начиная с весны квартира пустовала: наступало дачное время. Марта сказала Дождеву, что ей необходимо срочно вернуться в театр, чтобы дошить платье, а красный бархат на отделку должны привезти в воскресенье вечером. Но, оказавшись дома, она поняла, что напрасно сбежала из Кукушкина, что от себя все равно не убежишь, и от всех нахлынувших на нее воспоминаний и чувств, связанных с Сергеем, она неожиданно для себя вдруг прониклась к нему такой нежностью, что даже всплакнула, сидя в темной комнате на кровати. С нежностью, но уже несколько другого, более изысканного привкуса, она подумала о Мите. Мальчик, похоже, совсем запутался. Понятное дело, что не кровь связывает их, но ведь нечто большее, и что станет с ними, узнай Дождев об их связи. Именно связи, поскольку любовью их вороватые встречи назвать нельзя. Митя ворует ее у отца, она тоже ворует его, Митю, у отца. Они обкрадывают славного и милого Дождева словно шутя, словно невзначай. Нет, это самообман. Она любит Митю, а он не любит ее, просто она молодая женщина, которая живет рядом с ним, посылает ему такие многозначительные взгляды и так разыгрывает случайные встречи в небольшом пространстве их дачного дома, что, не коснись она лишний раз его своим бедром или не покажись она ему как бы нечаянно нагой на веранде, кто знает, может, ничего такого и не было бы. Она вспомнила, как он поцеловал ее утром – ей показалось, что он сделал это из жалости к ее уродству, – и решительно направилась на кухню. Достала смугло-янтарную бутылку с коньяком и, отхлебнув прямо из горлышка, вздрогнула: зазвонил телефон. Кто бы это мог быть?
– Глеб, ты?
Они приехали через четверть часа: Глеб и его старинный приятель Дымов. Глеб, высокий, в роскошной желто-голубой блузе и белых широких брюках, его зычный голос был слышен еще в подъезде. Дымов – тихий очкарик в помятом костюме песочного цвета, у него обиженные, как у бассет-хаунда, глаза и добрая улыбка. Дымову необходимо было где-то переночевать, он приехал из Москвы по своим делам, а человек, пообещавший сдать ему на месяц квартиру, неожиданно женился.
– За один день? – растерянно улыбнулась растревоженная этим внезапным визитом Марта, наливая гостям коньяк и радуясь тому, что этот вечер ей не придется проводить в одиночестве.
– Да. Влюбился, и все тут. Он уж так извинялся, но что поделаешь. А в гостиницах мы жить не можем, правда, Женя?
Дымов смущенно пожал плечами и согласился кивком головы. Видно было, что московский гость утомлен и дорогой, и Бобровым, который без умолку тараторил, прерывая свою затейливую, как кружева, речь рюмками коньяка. Дымов почти не пил. Он лишь украдкой осматривал хороший кусок белого куриного мяса, на который уже давно нацеливался Бобров.
– Хорошо. Думаю, что мне удастся вам помочь, тем более что до осени квартира пустует. Что касается Мити, то я все ему объясню. А что Лиза, она не против?
Бобров шумно, со всхлипом вздохнул:
– А она не знает. Поехала в Кукушкино к Мите. Да какая разница, черт возьми! Это же сам Дымов! Ты, Марточка, еще не представляешь, что за человека я к тебе привез. Он замечательный, добрый, он друг Франсуа Планшара.
Дымов тронул его за рукав. Марта обратила внимание на покрасневшие веки Евгения Ивановича и сказала, что немедленно отвезет его на квартиру. На том и порешили. Ловко выдвинув из-под вилки Боброва блюдце с курицей, она зацепила волшебный, розовато-белый кусок и вручила его Дымову:
– Вот поешьте, а то совсем проголодались.
Бобров, сделав в воздухе вензель, прокашлялся и схватил яблоко.
– Однако. Ну, тогда поехали быстрее, а то здесь что-то душно стало.
Бобров в такси уснул, и они отвезли его домой. Когда Марта открыла дверь квартиры, в дверь ударил такой омерзительный запах, что она уже почти пожалела, что согласилась привезти сюда Дымова. Митя – добрый мальчик, всем, кто ни попросит, дает ключи от квартиры. Накурили, насвинячили! Она, зажигая по пути свет, ужасалась, в каком состоянии квартира. Но Дымову, судя по всему, было сейчас ни до чего. Марта усадила его в кресло и принялась искать в кладовке консервы. Наскоро приготовленный ужин немного оживил гостя. Пока он ел, Марта собрала в доме все пепельницы, подмела полы, убрала все постели, с отвращением выбрасывая в мусорное ведро непристойные вещицы, разбросанные где попало. Постелив свежие простыни, она показала Дымову, где можно найти чистые полотенца, отдала ему ключи и, написав фломастером крупными буквами записку, адресованную приятелям Мити, в которой говорилось, что квартира занята, уехала к себе.