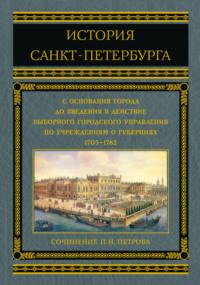полная версия
полная версияБелые и черные
– Куда? Шашни, видно, раскрываются? Так надо дать знать, что я велю за шута приняться!
Анисья Кирилловна опустилась на колени и зарыдала от обиды. Горе в эту минуту заставило девицу Толстую все забыть, предавшись неудержимой скорби. Слезы на Екатерину Алексеевну всегда производили сильное действие, и этот поток слез с громким всхлипываньем скорее, чем можно было ожидать по силе гнева, переменил его на милость и даже – чуть не на нежность к старому другу. Государыня положила обе руки свои на плечи Анисьи Кирилловны и сама склонила голову к плечу ее, успокаивая ее.
Не скоро, однако, успокоилась и при таком искреннем проявлении сочувствия девица Толстая. А успокоившись, она прежде всего высказала, что хотела уйти, заметив гнев ее величества, не считая своевременным оправдываться и думая выждать время в своей комнате.
– Вы знаете, дальше вашего дома мне и уходить некуда, – закончила она свою речь, целуя милостиво протянутую ей руку монархини.
– Однако согласись, Анисья Кирилловна, – оправдывая свой справедливый пыл, спокойно теперь говорила государыня, – не могу же я быть хладнокровной, услышав такие вещи от Ильиничны!.. И ты и она, я знаю, мне одинаково преданы. За эту преданность я и спускаю Ильиничне подчас и дерзкие слова. Любовь ко мне, как и теперь, заставляет ее высказывать, что я, по рассеянности и доброте своей, не замечаю врагов, а они не унимаются, все шипят втихомолку. Клеветы плетут… подметные письма пускают в народ… Подслушивать без дела ведь не станет же человек? И где подслушивать?.. Что у меня делается и говорится?! Лгун Лакоста всегда был… клеветал мне на женщин моих… на Ильиничну особенно, не раз… сколько я помню. Да и на тебя доводил мне, кажись, что ты бываешь у Петра Андреича и там судишь да рядишь, как я обращаюсь со внуком… что не люблю я его и хотела бы извести. Так после таких наветов, которым я не верила и не верю, разумеется, как же ты придаешь какую бы то ни было веру словам этого мерзавца на Ильиничну?
– Я, государыня, Авдотью Ильиничну только предупреждала, что неладное взводит на нее шут. Что он подслушивает, и я, государыня, заприметила не раз. Да и сегодня еще, ваше величество, как вам докладывал Иван Балакирев про посланца Анны Ивановны, а тот один сидел в передней уже без Дитрихса, – откуда ни возьмись этот самый Лакоста; подсел к курляндцу – и ну шушукать. Пришел Иван и прогнал мерзавца. Да и дверь запер вторую – к цесаревнам на половину. Увидевши это самое, я стала говорить Авдотье Ильиничне, как этот шут теперь повадился к нам шмыгать. И откуда он, говорю, возьмется… вдруг, должно быть, подслушивает – забирается в темное место али в шкап. Ну, где его найдешь?.. Ведь притаится, проклятый, говорю. Вот ономнясь меня завидел – должно полагать, собирался подслушивать, – да я его окликнула, с лестницы он спускался потихоньку. Он ко мне: начал наговаривать на тебя, Авдотья Ильинична, то и то доводить… А она, не вслушавшись, что говорю по дружбе, а не в перевод, учала мне укоризны делать… что я ее выдаю будто… что она не такая… Ну и распелась не по разуму. А ваше величество тут и крикнули на нас.
– Прости же меня, матушка Анисья Кирилловна! Сама плачу, что между нас притча такая случилась из-за проклятого шута, – сквозь слезы ответила из коридорчика Ильинична и, не дожидаясь результата своих слов, вбежала в опочивальню государыни и рухнулась в ноги перед Анисьей Кирилловной как-то особенно быстро и неотразимо. Еще быстрее вскочила Ильинична и поверглась в ноги перед государынею, милостиво положившей ей руку на плечо со словами:
– Ну ладно, прощаю… Не кричи только так. Помиритесь с Анисьей Кирилловной.
Поцеловать руку государыни и наброситься с поцелуями на Толстую было для Ильиничны делом одного мгновения.
За этим действием, разумеется, последовала успокоительная развязка сцены, обещавшей поначалу грозный характер.
Как единственный результат возникшей было кутерьмы из-за шпионства шута последовало, однако, повеление государыни призванному в опочивальню Ивану Балакиреву сходить к Андрею Ивановичу Ушакову и передать волю ее величества, чтобы допросить шута Лакосту и разузнать доподлинно, для кого он шпионит. Приказ этот, заметим, отдан был Ивану государынею после того, как она отпустила от себя примиренных соперниц – Ильиничну и Кирилловну. Слезы последней, без сомнения, тронули Екатерину I и по-прежнему расположили было к ней, но припоминание слов того же Лакосты снова, по уходе старого друга, возбудило не изгладившееся совсем подозрение. «Ведь Толстые все люди тонкие! Анисья Кирилловна не выродок же в семье… Слезы у нее, чего доброго, явились и не без цели – дать другое направление мыслям моим о ней… – думала теперь государыня. – Ведь я остановила ее на бегу? Мало ли что будет она мне рассказывать в оправдание! Может, оттого долго и рюмила, что не знала, что отвечать, пока не придумала. Постой, постой, и еще припоминаю… Ильинична говорила, что застала у нее утром сегодня Петра Андреича, как и накануне. Когда обморок со мной случился за панихидой! Баба моя говорила, кажись, что Толстой выспрашивал: что и как это со мной было?»
– Иван! – раздался призыв государыни.
Балакирев мгновенно вырос в дверях опочивальни.
– Подойди ко мне ближе и давай свое ухо! – молвила государыня шепотом. Длинный Балакирев стал на колени и приблизил ухо к лицу монархини, готовясь внимать наказу, произносимому ему тихим шепотом на ухо.
– Поди к Ушакову и скажи, что я велела ему взять Лакосту и допросить обстоятельно о его шашнях. Разузнать: где он бывает и у кого? Пристрастить шута позволяю… только не очень… Он трус и все с одного страха выболтает! Ты расскажи сам что знаешь и заметил про него. Слушай же: теперь… сейчас иди… вели Андрею Иванычу принять меры не мешкая. И все, что скажет и как он тебе показался, передай мне обстоятельно… Да, еще забыла… Спроси Андрея, что он думает насчет Павла Иваныча, каков он ему кажется, и насчет Петра Андреича. И пусть мне завтра все отрапортует, что узнает. А если еще кого нужно будет ему взять к допросу… пусть. Мы позволяем – скажи! А сам приходи от Ушакова прямо к нам.
– Слушаю, ваше величество, исполню в точности, – молвил Иван, подымаясь на ноги.
Когда он исчез за дверью в сени, с половины царевны тихонько отворилась дверь мадамой Ла-Ну, гувернанткой их высочеств. Ее – верную союзницу свою, ссужаемую деньгами по первому востребованию, – Лакоста, прогнанный Балакиревым, послал разведать на половине ее величества у кого можно будет, что слышно. Сам он не смел показаться на глаза Балакиреву и ожидал, что может последовать какая-нибудь вспышка, если зародилось на его счет подозрение. А уже прямым подозрением, и ничем другим, объяснял он окрик Балакирева и то, что он прогнал его и запер двери. Промежуток времени между удалением своим и присылкою Ла-Ну (француженки, служившей орудием Лакосты) он употребил на посвящение дамы в подробности возлагаемого им на нее экстраординарного поручения. Преданной себе считал шут на половине ее величества только судницу, бабу Матрену. Она любила зашибаться хмельком и за мелкие подачки на выпивку готова была на все – даже на кражу, если бы потребовал щедрый плательщик. В ее комнате Лакоста по вечерам устраивал в потемочках надежное дежурство свое или за печкою в коридоре, за ковром, повешенным наискось, – перед выходною дверью. Одна половина этого ковра, по пути следования по коридору входящих и выходящих, разумеется, поднималась и опускалась; а другая половина, за печкою, в углублении, оставалась в покое, за ненадобностью ее отдергивать. За завесой и скрывался Лакоста как в самом удобном пункте наблюдений. Он не только слышал здесь все, что говорится в трех комнатах апартамента ее величества, но и то, что происходило в коридоре и на лестнице. Ему оттуда долетали даже, при тонком слухе, развитом постоянным напряжением этого органа, – звуки и сверху, с антресолей над вторым этажом, где жила Анисья Кирилловна Толстая. Ее, как особы расположенной по внушению графа Петра Андреевича Толстого в свою пользу, Лакоста, конечно, не боялся и в бытность у него кабинет-секретаря Макарова или княгини Меншиковой даже проходил в соседнее с ней помещение, где был темный уголок за шкапами. Не терпел он только Ильиничны и боялся ее рысьих глазок, открывавших не раз его подход таким образом, что нельзя было и уйти незаметно. Заметив наблюдателя, Ильинична ограничивалась только угрозою перстом; но это движение бросало в лихорадку осторожного Лакосту, и долго не приходил он в себя после каждого такого жеста Ильиничны. Она его инстинктивно ненавидела, как и он ее, взаимно.
После сцены с девицей Толстой Авдотья Ильинична еще более усилила бы свое нерасположение к шуту, если бы оно могло у нее увеличиваться. Но и без того уже раздражение на шута достигло в ней крайних пределов. При таком состоянии у ненавидящей особы пробуждается даже своего рода ясновидение, и оно помогает отгадывать иногда людей противной партии по самому незаметному для других признаку.
В то мгновение, как мадам Ла-Ну проходила коридором к суднице Матрене – за справкою о положении дел шута, – она столкнулась лицом к лицу с Ильиничной, спускавшейся с лестницы идя от себя. У лестницы было в коридоре окошко на двор, дававшее достаточно света и, заметим, единственное во всем коридоре. Ла-Ну, для отвода подозрений, держала в руке выпяленные уже прошивки гладью, порядочно загрязненные во время вышиванья в пяльцах. Предлог – отдать их выстирать Матрене – был очень благовидный и не мог, казалось бы, возбудить никакого подозрения. На беду посланницы Лакосты, шут в виде любезности возвратил мадам Ла-Ну ее перстень, который был у него давно в закладе и который она не могла выкупить. Она даже отказывалась от своей любимой вещицы, заложенной лет пять назад беспутным ее супругом. Считая перстень своим, Лакоста, любивший украшать свои худые пальцы кольцами с алмазами, часто носил и вещицу, теперь переданную владелице для побуждения ее к большему усердию выполнить его поручение. Страшно памятливая и проницательная едва ли не больше самого Лакосты, Ильинична, года за два, через третьи руки приторговывала у шута перстень Ла-Ну. Теперь, увидя его на ее руке, Ильинична по перстню мгновенно поняла, что гувернантка – одно из орудий шута. Конечно, первая мысль при взгляде на перстень была еще темное подозрение; но для такой личности, как Ильинична, этого оказалось достаточно, чтобы немедля решить наблюдать за гувернанткой. Та мелькнула в уголок к Матрене, а Ильинична обошла с другой стороны, чрез гардероб ее величества, к самой перегородке, отделявшей помещение судницы от коридорчика, и спустя две минуты лицо мамы цесаревен осветила зловещая улыбка. Она уже обладала новою нитью сношений Лакосты с государыниной половины. Шорох по ковру не был слышен, и подход Ильиничны нисколько не нарушал царствовавшей здесь тишины, в которой отчетливо отдавались слова, произнесенные шепотом двумя женщинами.
– Так нитшево после крика и не былло?
– Ничего… разошлись и помирились оба врага, – разумеется, для вида… Каждая осталась при своем. Готовы опять, при случае, уколоть друг друга и наябедничать.
– А про… ничево?..
– Ильинична кричала, что пора его схватить и допросить.
– Н-ню? А на гетто ште-тя?
– Анисья Кирилловна подтвердила, что видела Петра Ивановича сегодня, и Балакирев его, говорит, прогнал на вашу, значит, половину.
– А после еште?
– Разошлись, говорю, и ничего кажись.
– А кута Ивван пошшел?
– Не знаю. И не видала, сударыня ты моя!
– Слушай… Матренишка. Ем-му после эттафа не скорро мошно стесь покайзайться… Ти би постлютчифала… и ффетшерком… скотил ты к Павлю Иванитшю или на Афтотя Ифановна… Понимить… Т-там татуть… типе… тостатосне…
– Почему не так? – ответила покладная Матрена, представляя для себя не без удовольствия открытие нового источника поживы.
Как ни сдерживалась Ильинична, но это неожиданное открытие взорвало ее окончательно, и она брякнула нарочно тазом, чтобы перервать беседу и спугнуть райскую птичку, проповедующую так удачно о шпионничанье и его целях.
При раздавшемся ударе по тазу француженка, положив свою вышивку, поспешно отретировалась, считая себя по совести исполнившею посольство и добившеюся надлежащего результата.
– А-а!.. – выйдя из своего тайника и смотря вслед уходившей француженки, молвила Ильинична. – Матренку нужно прямо вон.
Послушаем другого посланного и его сообщения Андрею Ивановичу, повеселевшему при появлении Балакирева в своей рабочей комнате. Туда слугу государыни заранее был отдан приказ пускать без доклада.
– Добро пожаловать. Наконец-то! Ну как, здоров? Садись-ко рядом со мной да поговорим ладком. Иванушка! Да и каким молодцом, братец ты мой, в нашем мундире! Ведь ты знаешь, что находишься прапорщиком в моей роте?! Коли бы ты другую службу нес, мне бы пришлось пожурить за неявку к командиру, а тебе, знаю, не до того. Ну, рассказывай, что там у вас?
– Да скверное дело, Андрей Иванович, завелся мерзавец – шпион… у нас! Черт его знает, для кого и для чего? Лакоста! Всюду втирается… Торчит непременно, где только есть уголок. Государыня приказала вам сказать, чтобы вы его забрали да допросились вдосталь, кому это он шпионит? Ведь подслушивает, что творится в опочивальне, что там говорит кто… Да еще наклепил на Авдотью Ильиничну Анисье Кирилловне, и промежду их распря произошла… и государыня было разгневалась, да все кончилось благополучно.
– Ну, брат, что Лакоста шпион – ты мне говоришь не новость… И кому он шпионит – я тоже знаю. Нужно бы прихватить, убравши слугу покорнейшего, и господ почтенных. Тогда мир и спокойствие будут полные, а без того что пользы, что похлещу я старого пса или почешут ему там, где он не желал бы?! Дела останутся по-старому, коли не прихватить кой-кого выше…
– Да, на этот счет, Андрей Иваныч, государыня приказала вам сказать – полная мочь вам дается… Коли кого потребуется, говорила ее величество про вас, может он взять, и мы… соизволяем…
– Этак, дружок, будет поладнее. Тут можно поусердствовать и его превосходительство Павла Иваныча попросить пожить на новой квартире. Да чтобы не скучно ему было в уединении, можно и даму пригласить… побыть по соседству… Нужно, однако, на это письменный указик! Тогда наш брат явится и поосведомится: как спали-ночевали да что во сне не видали ль?
– Ее величество повелела мне все донести: как и что вы намерены предпринять во исполнение переданной мною высочайшей воли; и чтобы вы завтра отрапортовали сами, что сделаете.
– Да коли действовать, голубчик, до завтра долго ждать. Нам нужно получить указец сегодня бы. Тогда, не теряя времени, как мы со светлейшим, к примеру сказать, накрыли сторонников царевича, – Андрей дремать не станет! А если указа не даст ее величество, пусть нашего брата в генерал-адъютанты свои пожалует, и словесные приказания, не глядя на лицо, исполнять будем. А до того нельзя нашему брату руки далеко запускать: есть, братец, особы, до которых сам коснуться покуда не могу – руки не доросли, хоть бы сильно хотелось…
– Так и прикажете донести?
– Конечно, так. Да ты погоди мало-маля. Я черкну кое-что, да вместе с тобой и пойдем, пожалуй. Да и дальше я тебя с собой же возьму как являться стану на свиданье к милым друзьям нашим.
Произнеся эти слова, Андрей Иванович Ушаков принялся писать. Воцарилось гробовое молчание. Генерал писал, потирая по временам лоб. Потом он, перечитав написанное, начинал строчить еще поспешнее. Наконец кончил, засыпал песочком, вложил написанное в сумочку, и через минуту уже оба они, Ушаков и Балакирев, шли к Зимнему дворцу по набережной.
Рысьи глаза Андрея Ивановича увидели издали человека, выбежавшего из-за угла дворца, с канала, на Неву и направившегося к спуску на лед.
– Стой! – крикнул Андрей Иванович этому человеку и бросился бежать за ним.
Балакирев последовал за генералом. Сделав шагов тридцать, они увидели, что удалявшийся вначале как будто остановился и нагнулся, должно быть, наклонив голову, так что из-за епанчи стало не видно шляпы.
– Остановись! – крикнул еще раз Андрей Иванович и, опередив Балакирева, схватил за плащ остановленного его приказом.
– Тебя и надо! – весело сказал Ушаков, поворотив как перо человека в плаще к себе лицом. Это был Лакоста, очевидно направлявшийся на Васильевский остров. – Пойдем покуда с нами, назад! – сказал генерал растерявшемуся шуту совершенно дружески. – На пару слов…
Глазами показал Андрей Иванович Балакиреву, чтобы он пошел сзади, а сам, взяв за руку Лакосту, двинулся с ним в паре рядом. Войдя на дворцовый двор, генерал привел шута в караульню и велел берейтору отвести Лакосту в свой дом, не дозволяя ему ни с кем говорить по дороге.
Отдав этот приказ и посмотрев вслед Лакосте, удалявшемуся с ефрейтором, Андрей Иванович направился с Балакиревым во дворец, на половину ее величества.
V. На следу
Авдотья Ильинична Клементьева, в полном придворном трауре, подъехала к дому князя Никиты Волконского и, выйдя из саней, поднялась на крылечко.
Каменный дом Волконских построен был на Неву, между 9-й и 10-й линиями Васильевского острова, общею складчиною отца и матери княгини Аграфены Петровны, в подспорье не особенно значительному зятнину достатку. Строить же велено было князю Никите, когда, злобствуя на Петра Михайловича Бестужева, светлейший князь велел внести зятя по первой статье. Официальная справка о поместных дворах 7188 лета показывала 1002 двора (вместо 602-х), а после 1716 года за отцом князя Никиты Волконского и пятидесяти дворов не было, потому что в пожары 1708 и 1715 годов сгорело 14 его усадеб, причем уничтожено больше семисот крестьянских дворов. Стало быть, в наличности всего ничего. Против справки, однако же, не сговоришь; под ответ можно попасть и под опалу, пока выяснится неправильность дьячьей выписки. Да и князь Никита был не из горластых, а о деловитости и говорить нечего. Вечный собутыльник генерал-адмирала, он ему, разумеется, пожаловался на безвременье, да тем все и кончилось. Граф Федор Матвеич Апраксин не только словесно выразил соболезнование, но и съездил к светлейшему представить подлинное положение состояний Волконского. Меншиков якобы и впрямь расчувствовался, обещал поправить дело и побранить дьяка Щукина за неподходящую справку. Да на обещанье и отъехал себе.
Дело ни на йоту не изменилось, и требования – строить – следовали одни за другими, все настоятельнее. Отписал князь Никита к тестю с слезным моленьем о помощи, тот и приказал приказчику своему заподрядить кирпичу, навозить камней (на фундамент) и нанять рабочих на его счет со всеми проторями. Так зятю тесть и вывел каменный домок на славу.
Ясно, что дело князя Никиты, человека незаменимого за бутылкою, при графе Федоре Матвеевиче устроилось и относительно дома, как и во всех других случаях, только благодаря тому, что супруга его, Аграфена Петровна, дочь умных родителей, и сама была умница из умниц. Отец ее, Бестужев, изобрел себе в отличку еще особое, якобы иностранное прозванье – Рюмина, желая при дворе казаться европейцем. Мать, русачка, у такого сожителя была безгласное орудие высокомерных планов, хотя не лишена была ни природной сметливости, ни дальновидности. И дети – дочь и два сына – умниками выросли в отца, а осторожностью в мать. Аграфена Петровна особенно была, в отца и брата Алешеньку, сладкоглаголива и вкрадчива. Она к кому угодно в душу влезет, дайте только доступ – речь завести.
Силу этой добродетели испытала на себе в этот вечер сама хитрячка не последняя и сладкоговорка не из заурядных – Авдотья Ильинична Клементьева. За язычок свой да за размазыванье и расписыванье живыми красками якобы дела важного – пустяков Авдотья Ильинична и в баронши попала из коровниц; стало быть, по части сладких разговоров баба-дока. Да и та в присутствии Аграфены Петровны оказывалась ученицей пред профессором.
Аграфена Петровна умела понять, что каждому приятно, и в прием этого лица, до разговора еще, распоряжалась так, что уже с первого шага в ее доме принимаемая особа чувствовала себя чуть не на седьмом небе. Вот хоть бы и прием Авдотьи Ильиничны, помешанной на честолюбии, оказывался образцом дипломатической сообразительности княгини Волконской.
У русских бар долго велся азиатский обычай не вдруг допускать до себя гостей неожиданных или не приглашенных. Такие гости, хотя бы и равные рангом, подъезжая к дому, засылали слуг, чтобы узнать: дома ли, примут ли, да как еще примут? Трактация об этом растягивалась самое меньшее на полчаса. У княгини Аграфены Петровны наказы прислуге давались раз навсегда, и прислуга не сбивалась ни в чем. Зная слабость самопревозношения Авдотьи Ильиничны, для нее был церемониал у княгини Волконской самый блистательный. Главные двери на парадную лестницу – настежь, и вести двум лакеям бережно, под руки, чтоб не споткнулась. Третий, дежуривший у входа, казачок, завидя остановившиеся сани и позвонив вводителям – принимать, полетел к боярыне. И она сама уже вышла в светлицу встречать Ильиничну, пока с нее снимали шубейку.
Вышла, приняла в объятия, ввела к себе, расцеловала и посадила против себя. Неприметно мигнула – и поднос несут с наливками да с заедками (dessert). Как тут не растаять Ильиничне и не почувствовать себя столбовою боярынею?
– Свет ты наш, княгиня Аграфена Петровна, – начала приведенная в восторг гостья, – что так давно не изволила жаловать к нам, сиротинам? Легко ль, шестой день никак севодни! Уж так-то я встосковалась, что и сказать нельзя. Переждала утро, вижу – нет как нет, к вечеру и поплелась. Первое дело, сон видела, кажись так себе, не дурной, может, да оченно занятный. Вот ужо расскажу… Ваша милость, слыхали мы, мастерица сны толковать. А другое дело – и новенькое есть кое-что… вам, княгиня моя милостивая, надо ведать про то…
– Ну, начинай же… хоша со сна, хоша про новости, – вымолвила княгиня будто безучастно. А в самом деле сгорая нетерпением от предположения, верного в основе, что прибыла Ильинична никак не даром.
– У нашей матушки севодни уявилось посольство одно, да довольно загадочное.
Тут она рассказала эпизод Бирона и его речи, бившие надвое, будто бы без цели.
– Бирона как не знать, – выслушав донесение Ильиничны, высказала княгиня Аграфена Петровна. – И что ему не по нутру должны показаться делаемые предложения царевне, тоже в порядке вещей. Он ведь женат, для прикрытия. Самое лучшее, если бы всемилостивейшая государыня отписала племяннице: я тебе устроить свое счастье с Морицем Саксонским не думаю препятствовать. Это было бы самое разумное и вполне справедливое решение, желательность которого самой царевной очевидна. А что Бирон высказывает свои взгляды несогласные, – в его сторону нечего заглядывать. Да и здесь его незачем приголубливать. Как в Митаве всех он ссорит, так и здесь постарается. Иначе ему нечего и делать.
– Я тоже, матушка княгиня, сама смекала, что так следует нашей поступить. Сумеем внушить, как и что. Да и ты, княгиня дорогая, не оставь своим посещением нашу половину.
На этом кончились речи о политике. Начались усердные возлияния со стороны Ильиничны и ублаживанья княгинею-хозяйкою, скоро доведшие гостью до крепкого сна. Уложив ее, княгиня принялась писать об узнанном отцу, и к утру уже уехал посланный с письмом.
Ильинична действует у княгини Волконской, а в комнатах ее величества идет трагикомедия.
Андрей Иванович Ушаков, явившись по призыву, прежде всего бросился на колена пред государынею и прикинулся совсем погибающим человеком. Он с трепетом чуть выговаривал от волнения, представляя необходимость для него высочайшей поддержки.
– За Лакостою, мать наша, стоит целая толпа ваших ворогов. Прежде чем приказать его пристрастить, осмелюсь просить: дайте указец взять кое-кого, других прочих, на первый случай… Пригласите цесаревну Елизавету Петровну и повелите контрасигнировать приказ, вашим величеством мне отданный…
– Да разве нельзя без этого, Андрей Иваныч? Я тебе, батюшка, верю во всем и полагаюсь на тебя.
– Да, те-то, другие прочие, кому невыгодны будут мои у них хозяйничанья, словесному моему заявлению вашей воли воспротивятся. А приказ совсем иное: читай и повинуйся!
Императрица вздохнула. Она не любила крайностей и слова «арест» с минувшей осени не могла слышать без содрогания.
Видя на лице ее величества колебание и холодность, Ушаков повторил просьбу о приглашении Елизаветы Петровны.
– Да зачем это? Кто такие могут быть ослушники?
– Первый – Павел Иваныч! – брякнул, совсем неожиданно для ее величества, Ушаков.
– Да разве его ты думаешь брать? – вымолвила монархиня, бледнея.
– Нельзя иначе, ваше величество. Он-то и есть корень зла! Могу поклясться вашему величеству, он главный предатель… С ним вместе Чернышева, старого шута, с сожительницею прихватим да душегубца старинного же… Толстого.
– Нет, нет, нет!! – вскрикнула в ужасе государыня и замахала руками. – Помилуй, Андрей Иваныч… все ведь возопиют на меня, скажут, если эти враги, кто же друзья?