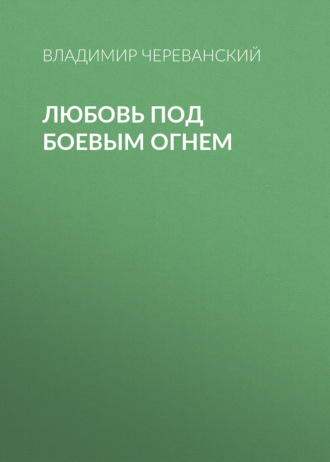 полная версия
полная версияЛюбовь под боевым огнем
– И кем же, графиня?
– Князем Ш., человеком, прошедшим хорошую школу в восточную войну. Я очень уважаю эту светлую личность… Ба-шов же переходит по собственному, разумеется, желанию, чему помешать было невозможно, в простые санитары. Все это очень хорошо устроилось. Теперь у нас остается один вопрос: сойдемся ли мы с отрядным врачом? Князь и я намерены отстоять свою независимость. Мы богаты всем необходимым и особенно хорошо устроенным обозом, для чего же нам подчиняться какому-нибудь Гейфдеру? Что вы знаете об этом отрядном немце?
– Весьма немногое, графиня. По малому знакомству с русским языком он непозволительно комичен в объяснениях с больными солдатами. Наконец, знаю его как претендента на амплуа приятного тенора.
– А следует ли терпеть в отряде такого господина?
– Вот уже это не моего ума дело. Притом же вы сами только что сказали, что выходящий за пределы своих обязанностей…
Можайский вынес из этого свидания тяжелое впечатление. Признавая во многом равноправность обоих полов, он терпеть не мог политиканствующих дев. Здесь само собой явилось перед его умственным взором сравнение с образом Ирины во всей ее трогательной простоте. Дневник последней был чужд малейших признаков как напускной скорби, так и подрумяненных восторгов. Чтение же его, хотя бы по одной страничке в день и притом первой, какая откроется, обратилось у Можайского в нравственную потребность.
«Сегодня, – читал он по возвращении от графини, – я получила диплом на звание женщины-врача и теперь мысленно обращаюсь к тому дню, когда я объявила родным желание поступить на медицинские курсы. Мать, занимавшаяся моим воспитанием исключительно со стороны требований света, нашла мое желание безрассудным. Сестра Марфа нашла профессию врача несоответственной высокой пробе княжеской крови. Один отец ответил мне: “Учись, деточка, и я с тобой буду учиться…” Много мне довелось выслушать укоров по поводу моей решимости сделаться врачом. По соображениям ходячей морали мне предстояло иметь к концу курса незаконнорожденного ребенка, стриженую косу и пальцы в папиросных ожогах. Но вот диплом в моих руках, а мое женское достоинство ни малейшим образом от того не пострадало.
Теперь строгая мораль занята обсуждением вопроса, прилично ли мне, княжне Гурьевой, носить значок “Ж. В.” и посмею ли я выставить дощечку с надписью “Княжна Гурьева, детский врач, пользует бесплатно”.
“Деточка, я знаю владетельного князя, состоящего лейб-окулистом своих подданных, но мы скроем на вывеске твой княжеский титул, скроем его для того только, чтобы не наводить страх на нищету, готовую принести к твоей двери больного ребенка”. Так говорил отец, передавая мне дверную дощечку. Отец был прав. Первая моя пациентка пришла с улицы, то была кухаркина дочка.
С сегодняшнего дня я провожу в жизнь принцип: mens sana in corpore sana. Принесу ли я своим служением пользу человеку? Не знаю, жизнь так прихотлива. За дело!»
VЗа войной – наперекор полководцу Мольтке – Можайский не признавал божеского установления и видел в ней только калейдоскоп, в котором низменное сменялось возвышенным, а отрадное уживалось с ужасающим. Ему ежедневно преподносили мрачные известия.
«Внезапно освидетельствовав розданные больным порции говядины, я нашел обвес по пяти золотников в каждой», – доносили ему с правой стороны.
«Лоучи при верблюдах купца Извергова заявили, что, не получая платы и хлеба, они предпочитают бежать в степь», – доносили ему с левой стороны.
«Из Ленкорани доставили две тысячи верблюжьих седел, называемых кеджеве, настолько неудобных, что…» – доносили ему с чекишлярского рейда.
Одолев в течение дня дюжину таких мрачных сказаний, Можайский выходил вечером освежиться на берег моря или в читальную клуба. Но прежде чем попасть в клуб, он останавливался на бульварчике, откуда открывался прекраснейший вид на всю прелесть залива, посеребренного яркой луной. Здесь ничто не росло, кроме кустиков божьего дерева, достаточно пышного, чтобы затенить уютную скамью. Неподалеку от нее шла к клубу главная аллея. Было уже темно. В клуб проходили компания за компанией. Говорили во всеуслышание.
– Куда мы денем пятьсот тысяч пудов одних сухарей? – спрашивал офицер, готовившийся в академию Генерального штаба.
– Съедим, – последовал ответ, очевидно человека с хорошим аппетитом.
– Наш отряд так мал, а запасы так велики! Нет сомнения, что мы не ограничимся походом в Ахал-Теке.
– И прогуляемся по вашему желанию в Индию?
– А почему бы и не так?
– Но каким же путем?
– Наискось, через Персию.
– Наискось, через Персию, нельзя, Англия завопит о нарушении нейтралитета, хотя, разумеется, она уже выслала в Теке не одну тысячу винчестеров.
– Так ли? Ведь теперь у них премьером Гладстон.
– Поверьте, все они на один покрой. Притом же вы напрасно так думаете об Индии. По-вашему, стоит показаться нашему солдатику на вершине Гималаев, как все эти раджи и магараджи так и завопят: «Пожалуйте, капитан, управлять Индией!»
Голоса политиканов удалились по направлению к клубу, поэтому ничто не мешало Можайскому возвратиться к занимавшей его мысли.
«“Жена обязана следовать за мужем”, – так говорит всемирный кодекс семейного союза. Но если сумасшедший муж взберется на крышу и скажет жене: “Следуй за мной”, разве она должна следовать за ним? В интересах Англии полезно, чтобы мистер Холлидей сидел за стенами Геок-Тепе, но не будет ли Ирина в положении жены сумасшедшего, взобравшегося на крышу?»
Шла новая компания с новыми речами.
– Слышали, Тыкма-сардар отбил у нас полмиллиона серебряной монеты.
– Вранье! А главное – не говорите так громко. Здесь не Чад и не Караджа-батырь, штабных здесь до пропасти.
Последовало строгое молчание, слышалось только звяканье незримой, но толстой казачьей шпоры, удалявшейся по направлению к буфету.
«Сколько возвышенных мыслей в ее дневнике, – продолжал мечтать Можайский, – и притом с какой простотой они изложены! Так пишут доверчивые дети, не изведавшие еще прелести украсительной риторики».
Кустик божьего дерева не предохранил, однако, его от собеседника, которым на этот раз отрекомендовался батальонный капельмейстер.
– Ваше превосходительство, не сочтите за дерзость, – заговорил он, придерживая руку у козырька.
– Чем могу служить?
– Мой марш, который я начал тревогой сорока барабанов…
– Прекрасно, вы начали свой марш тревогой сорока барабанов! Что же далее?
– После барабанов медные инструменты дадут понятие о штурме и разгроме крепости. На этот счет у меня достаточно вдохновения, но вот вопрос: какие мотивы отзываются особенно чувствительно в сердце, примерно… военного министра?
«Да он же кусается!» – подумал Можайский, срываясь с места.
– Сердце военного министра мне не открыто… а впрочем, в концерте инвалидов… но нет, имею честь кланяться…
Набежавшие тучки скрыли поспешное бегство Можайского, которому, впрочем, предстояло отправиться в эту же ночь в Михайловский залив. Оттуда доносил Зубатиков: «Получено-де приказание построить для экспедиции дешевую, дековилевского типа дорогу с конной тягой. Между тем строитель начал под шумок войны паровую дорогу – без разрешения, без плана, без денежных средств».
По дороге к заливу лежит остров Рау. Возле него в открытом море Можайский увидел перегрузку с морских судов на мелкосидящие баржи. Труд выходил поистине каторжный. Одно судно поднималось на волну, когда другое опускалось с волны. Пробираясь далее, по сети песчаных перекатов, «Чекишляр» мыкался со стороны на сторону, превосходно напоминая подстреленную дрофу. Сам залив представился в безотрадном виде: посередине его дымился отставной пароход, готовивший круглые сутки опресненную воду. Берега залива были обрамлены песчаными холмами, уходившими по материку вдаль на необозримое пространство. Повсюду царил хаос. Шпалы, рельсы и груды ящиков выглядывали беспомощно из песчаных сугробов, в которых вагоны и паровозы тонули по оси. Спешно строили запасный опреснитель. По дековилевской дороге прохаживался скорее самовар, нежели локомотив, подпираемый в опасных местах плечами кондукторов.
На берегу Можайский очутился в сердечных объятиях Узелкова, успевшего обветриться и обноситься.
– Все это ничего… а вот вопрос: как ты попал в здешние сугробы?
– Препечальнейшая история, дядя, которая может свести меня в могилу.
– Даже в могилу? Не забывай юнкера Шмидта из Кузьмы Пруткова.
– Да, тебе смешно, а каково мне? Моя эпопея такова: шел я с обратными верблюдами из Дуз-Олума, но здесь меня перехватили и теперь заставляют возить рельсы на верблюжьих горбах. Не правда ли, какое милое занятие для молодого офицера?
– Сколько у тебя верблюдов?
– Три тысячи. После каждого рейса мне приходится отправлять в лазарет до двухсот голов.
Все это было так скверно и так любопытно, что Можайский отправился тотчас же в строительную канцелярию. Оказалось, что постройка паровой дороги действительно начата без разрешения, без плана, на ура.
Возвратившись в Красноводск, Можайский передал командующему историю верблюжьего захвата и вообще постройки дороги.
– Итак, у меня ни верблюдов, ни дороги! – вскипел Михаил Дмитриевич, нервно хватаясь за перо. – Но вот… послушайте, что я пишу этим господам: «Вы захватили моих верблюдов и, не имея понятия об обращении с ними, перевозите рельсы на их горбах. Мне ясно, что ваша дорога не будет готова к экспедиции, поэтому извольте возвратить немедленно мою вьючную силу, иначе… потрудитесь вспомнить… что по власти командующего в военное время… я могу…»
Страстным пером Михаила Дмитриевича руководили на этот раз строгие расчеты стратега, готовившегося ко всем случайностям войны. На кончике пера его блестела и хорошая доза политических соображений. От такой, по-видимому, неважной войны, как экспедиция против Теке, зависело в ходе азиатских событий более чем многое.
Вьючная сила была, разумеется, возвращена ему немедленно, хотя и с помятыми горбами…
VIВсеми правдами и неправдами командующий собрал более десяти тысяч верблюдов, благодаря которым красноводские склады быстро истаяли. Выносливые хребты передвинули их вперед на этапы, расположенные по линиям военных сообщений. Казалось возможным приступить и к общему подъему в Ахал-Теке, но Атрекская линия продолжала тормозить ход экспедиции. Там аппетит комиссионера Щ-ны, заготовлявшего верблюдов, дошел до волчьих размеров. Пришлось отдать его под суд, в котором не помогла ему и пуля, неизвестно кем адресованная в спину главного свидетеля его махинаций.
С исчезновением последнего куля в Красноводске командующий отдал приказ штабу перейти в Чекишляр. На время переезда штаба по морю погода была, по выражению капитана Тавасшерна, на отличку, поэтому молодежь сплотилась в веселые, жизнерадостные кружки.
В одном из них общим вниманием овладел адъютант командующего, недавно возвратившийся из рекогносцировки.
– Вы уже знаете, что, занимая этап за этапом, мы подвинулись до Бами, это будет в ста двадцати верстах от Геок-Тепе, – сообщал он своим слушателям. – Вообще из рекогносцировки мы вынесли убеждение, что Теке даст нам серьезный отпор только в сердцевине оазиса и то под защитой крепостных стен. Бами и Ягиан-Батыр-Калу, отстоящую от Голубого Холма всего в четырнадцати верстах, мы взяли без боя. Последняя крепостца нам очень пригодилась. За несколько часов спешной работы мы проделали в ее стенах амбразуры, и к вечеру апшеронцы уже кичливо просили «господ чакинцов» пожаловать к их котелку.
– Ну уж и неприятель! – заметил Узелков.
– Погодите, поручик, он еще даст себя знать. При выступлении утром из Самурского, которым окрестили за ночь Ягиан-Батыр, мы были окружены несметными толпами наездников. Они повели нас церемониальным шагом с боем на каждом шагу, и только шрапнелью мы ослабили их натиск. Настоящую же атаку мы выдержали возле Янги-Калы, это тоже крепостца под самой стеной Геок-Тепе. Здесь мы пустили в дело ракетную батарею, и, стыдно признаться, наши ракеты падали бессильно в среде нашего же отряда. Одна угораздила даже ранить лошадь командующего. Наконец-то попали на счастливую, которая и всполошила все сонмище джигитов.
«Ракеты с такими зазорами так же страшны, – заметил при этом Михаил Дмитриевич, – как огненные языки размалеванных китайских драконов».
– Нужно отдать справедливость нашим топографам. Нисколько не смущаясь градом неприятельских пуль, они чертили кроки и планы с замечательным хладнокровием. Увы, не так повела себя рота красноводцев. При одном натиске она смешалась и вызвала не совсем-то лестный отзыв командующего… При обратном движении текинцы насели на нас всей массой, пришлось работать шашками и штыками, а в конце концов мы возвратились при звуках марша добровольцев. На обратном пути к Бами текинцы насели на нас в одном пункте довольно-таки грозно, тогда Михаил Дмитриевич остановил отряд и потребовал стул к самой цепи застрельщиков. «Хочу, – говорит, – полюбоваться наездниками, молодцы!»
– Скажите, капитан, – спросил один из любознательных слушателей, – в кого он больше верит, в себя или в войско?
– Он не отделяет себя от войска и верит в одно общее, как он говорит, боевое сердце. Впрочем, он кое-чем недоволен в отряде.
– Чем же, чем?
– Патронами, ракетами, интендантством… но, господа, нельзя же так допрашивать.
Адъютант оставался адъютантом.
– А что у вас случилось тринадцатого августа?
Умолчав, почему командующий недоволен патронами и ракетами, адъютант охотно сообщил подробности события, о котором уже составились легенды, занимавшие весь отряд.
– В этот памятный день мы могли внезапно лишиться командующего и притом остаться в неведении, кто направил на него преступную руку. Желая поздравить новопожалованных нижних чинов при парадной обстановке, он приказал устроить маленький походный праздник с угощением и музыкой. На праздник были приглашены и нухурцы, но… вам, господа, нужно знать, что такое Нухур и его жители. Нухур – это сельбище в отрогах Копетдага с населением из двоеданцев: Персии они платят по одному аргамаку в год, а Теке в знак смирения – по одному червонцу. В наш отряд они доставляли кое-что из сельских продуктов, не расставаясь, понятно, с оружием, так как и вся-то местность возле Бами, Беурмы и прочего слывет под общим названием «не ходи один». Развалины целых селений, сторожевых башен и даже монументальных сооружений свидетельствуют на каждом шагу о частых здесь враждебных столкновениях.
Праздничали под открытым небом. Командующий поднял было чарку за здоровье новопожалованных кавалеров, как вдруг из толпы нухурцев раздался предательский выстрел. Пуля рассекла воздух над его головой.
«Сегодня тринадцатое? – спросил Михаил Дмитриевич у своего соседа и тотчас же обратился к нухурцам: – Не думаете ли вы, мерзавцы, что у Ак-падши только и есть один генерал, который может разнести ваше гнездо? Ошибаетесь! Вместо одного убитого вам пришлют двух живых, с той разницею, что я презираю ваше предательство, а другой перевешает вас всех до одного. Знайте это!»
Обыск нухурцев не обнаружил виновного. Нашли мультук со свежей пороховой копотью, но не нашли его хозяина. Все мы были очень удивлены, так как нухурцам невыгодно ссориться с русскими. Предположениям и догадкам не было конца.
Наконец, – заключил адъютант свое повествование, – кто-то из нас вспомнил о существовании гипнотизма и решил, что выстрел в Михаила Дмитриевича мог быть направлен по внушению какой-нибудь крупной гипнотической силы. И вообразите, господа, Михаил Дмитриевич остановился на этой догадке как на чем-то ясном и достоверном. Он вспомнил даже чью-то фамилию… какого-то мистера Холлидея… известного ему за гипнотизера первой величины…
Другой на том же пароходе кружок образовался из отбившихся от строя транспортных, продовольственных и этапных командиров. Вниманием их владел поставщик верблюдов.
– Кто взял Хиву, я или Кауфман, – это еще вопрос! – бахвалился он без малейшей застенчивости. – Только одна история может рассказать, в каком положении очутился наш старик на Адам-Крылгане, в этой долине гибнущих людей. Воды в отряде было меньше, нежели в пекле, и хотя по картам и значилась впереди Амударья, а далеко ли она?
– Он правду говорит, – подтвердил один из верблюжьих командиров, оказывавших купчине несколько льстивый почет. – Я командовал тогда эшелоном, и, теперь нечего греха таить, мы ожидали, что Кауфман застрелится.
– Вот при таком-то отчаянном положении он вспомнил обо мне, призвал и говорит: «Достань воды – крест получишь!» – «Постараюсь, вашество!» А где ее достать, когда пескам конца краю нет?! Но на каждое дело есть своя сноровка. «Ребята, – говорю своим приказчикам, – айда нюхать, где воняет падалью…» Бегали мои ребята по степи, бегали, пока не потянуло острым ароматом. «Здесь копайте!» И действительно, колодцы были наполнены завалью. Дали знать в отряд, а оттуда снарядили колонну с бочонками, турсуками и лопатами. Отряд был спасен.
– Давно ли у вас приятельские отношения с Михаилом Дмитриевичем? – полюбопытствовал кто-то из продовольственных.
– Первый раз он потрепал меня за ухо по сию сторону Амударьи, когда я запечатал хивинские магазины и сменил своими джигитами ханских сербазов.
– Это у вас кокандская медаль?
– Было дело и в Коканде. При втором штурме Андижана Михаил Дмитриевич спросил меня: «Куда следует, по-твоему, целиться?» – «Позвольте, – говорю, – навести пушки». – «Наводи!» Я знал, где базар в Андижане, – и навел. «По этому направлению извольте бомбардировать!» После первого же залпа базар загорелся, а если базар загорелся, то уж бери азиата голыми руками.
В кружках пошли суждения о подвигах рассказчика. Арбяные и верблюжьи командиры готовы были видеть в нем героя. Арбяным особенно понравилась дерзкая смена неприятельских часовых, а верблюжьим – открытие колодцев по запаху падали. Впрочем, тем и другим нравилась бомбардировка по андижанскому базару.
– Так-то оно так, – заметил скептик из боевых, – да черт его знает, где кончается у него правда и где начинается ложь.
– В общем-то бахвал! – подтвердили все кружки. – Но все же, согласитесь, башка с мозгом.
С переменой состава кружков менялись и темы для разговоров, но деление военной общины на боевое сердце и транспортное сохранялось как-то само собой. Деление это сказывалось даже в пароходном буфете. Боевое сердце освежалось то лимонадом, то сельтерской водою, а транспортное потягивало не без кичливости херес и мадеру.
В последние дни чекишлярский лагерь чрезвычайно расширился. Всюду виднелись коновязи, ротные кухни, походные горны и обозы… обозы без конца. Особенно внушительный вид имел артиллерийский городок с рядами орудий, одетых в чехлы, и с целыми складами боевого огня всех видов: навесного, настильного и продольного. Мортирная батарея смешила несколько своими пузанчиками, а между тем мортирные уверяли, что они поспорят в свое время и с дальнобойными.
Даже население чекишлярского лагеря приняло в последнее время более энергичную физиономию. Несмотря на удушливую жару, всюду шла удвоенная суета, и во всем сказывался подъем духа, охватившего лагерные фибры. По-видимому, достаточно было взмаха барабанной палочки, чтобы весь механизм лагеря пришел в движение.
Земляки, торопившиеся с торбами овса и вязками подков, перекидывались на ходу лаконическими вопросами: «Вы куда?» – «В распроклятые Чады, а вы?» – «На Оумбар, тоже райское место». – «Так вы, земляк, не с нами?» – «Нет, мы мортирные».
Несмотря на эту обстановку, на пристани можно было видеть разряженных особ с необыкновенно розовыми на ланитах колерами. Они порывались кокетничать со встречными офицерами – одна локонами, другая высокими каблуками, третья – увы! – детским возрастом. С ними была и дуэнья, раскормленная туша, прикрытая яркой драпировкой.
– На каком они здесь положении? – спросил Можайский, проходя по пристани и выдерживая беспокойно-ласковые взгляды, с одной стороны, длинных локонов, а с другой – высоких каблуков.
– На положении как бы кафешантанных арфисток, – отвечал Зубатиков, встретивший Можайского на пристани. – Только, кажется, арфы свои они оставили в Тифлисе.
– С ведома командующего?
– Не только с ведома, но и по контракту, с определением цен…
– А как вообще наши дела?
– Нехороши.
– Что случилось?
– Я понимаю, что спирт должен испаряться, ну а сахар почему усыхает?
– И много?
– Из последнего транспорта усохло двадцать процентов – почти тысяча пудов. От масла мы привезем в передовой отряд только дубовые клепки. Картофель бросаем в море. Извольте прочесть сегодняшние телеграммы из Дуз-Олума. Мы отправили отсюда две тысячи четвертей крупы, а там получили на месте по той же накладной десять тысяч пудов лошадиных галет.
– Что же это такое?
– Да когда командующий и слышать ничего не хочет! Тащи ему в передовые пункты все, что попадется под руку. Вот пожалуйте завтра на отправку, и вы увидите, можно ли нагрузить в несколько часов полторы тысячи верблюдов с соблюдением порядка. Смотрители же, пользуясь этою безумной спешкой, записывают: здешний в расход как можно больше, а дуз-олумский на приход как можно меньше. Спрашиваю транспортного: «Куда вы девали разницу?» – «Куда же я мог девать?» И верно, куда он мог девать? Не придут же к нему в дороге текинцы покупать сахар.
Нужно было немедленно схватить быка за рога. Весь день Можайский провел в подсчете магазинных и транспортных документов и в результате пришел к дикому выводу: из магазинов бесследно исчезли десятки тысяч пудов муки, крупы, сахара, масла…
– «Усерднейше прошу ваше превосходительство, – решился он написать командующему, – остановить чрезмерную спешность транспортировки, которая ведет хозяйство отряда к несомненному расстройству. Смею вас уверить, что потом никакой суд не отличит правого от виноватого и никакие кары не возвратят похищенного…»
Доктор Щербак удерживал в это время командующего в постели, так как усиленная верховая езда вызывала у него болезненное расширение вен.
– Капитан Баранок, где вы пропадаете? – спросил больной, не имея сил подняться с постели. – Ах, вы здесь, прекрасно! Передайте, пожалуйста, господин Можайскому, что я дарю ему два фунта моей крови, то есть двое суток для остановки транспортов, но не более, слышите ли, не более, хотя бы у него украли под носом весь Чекишляр!
Многим была отравлена жизнь в эти два дня, но бык попал в цепкие руки, и ему пришлось поплатиться своими рогами. Безумным утечкам и усушкам положили предел: факты и счета разошлись между собою, как радиусы из одного центра. Дуз-олумский магазин оказался переполненным излишками против счетов – излишками, которые легко было перевести в свое время на деньги, а деньги спрятать в карман.
Можайский засыпал в эти дни урывками и притом с хаотическими галлюцинациями. Его преследовал в беспокойных сновидениях какой-то разгульный канкан из бочонков и турсуков, из лимонной кислоты и проросшего картофеля. В этой пляске вертелся продовольственный человечек в тужурке с воротником из лошадиных галет и с головами сахара вместо пуговиц. Человечек ухитрялся еще надевать себе на голову бочонок с маслом. Но тут Можайский срывался уже с постели и пускался бегом к морю, чтобы окунуться в его свежей волне.
После этой ванны он возвращался к себе бодрым, и человечка в тужурке как не бывало. Вместо же капкана перед ним воочию толпились вокруг продовольственного склада тысячи верблюдов, подставлявших свои хребты под тяжелую ношу.
После двух льготных суток Можайский проходил мимо дома командующего.
– Ваше превосходительство, пожалуйте ко мне на минутку! – послышался из-за парусинного полога голос Михаила Дмитриевича.
Можайский взошел на веранду.
– По случаю вашей болезни я не беспокоил вас своими докладами.
– Какая это болезнь – пустяки, расширение вен… Правда, Щербак уверяет, что болезнь вен доведет меня до могилы, но теперь не до них. Как идет нагрузка?
– Сегодня нагружаем полторы тысячи верблюдов.
– А анафемские утечки, усушки, раструски?
– Все цело, ничего не пропало…
– Вы меня радуете, но каким же чудом они возвратились обратно?
– Они найдены в Дуз-Олуме.
– Голубчик!
– Что прикажете?
– Хочу поцеловать вас. Меня сокрушали не безумные пропажи, а сама мысль, что мы, понимаете, мы вдвоем не сладим с продовольственным нахальством. Согласитесь, было от чего прийти в отчаяние. Теперь я спокоен. Капитан Баранок!
– Я здесь, ваше превосходительство!
– Вы, господа, понимаете, что новая неудача в Теке была бы историческим бедствием. Вот у меня ворох секретных сообщений, к чему повели прошлогодние неудачи. В окрестном мусульманском мире началось положительное брожение. Наши туркмены откочевали за Атрек. Афганцы дерзят в верховьях Амударьи. Дервиши усиленно распевают свои призывные стихи на базарах, и даже, как мне пишут, Китай заговорил прозой, а когда он говорит прозой, значит ехидничает или сердится. Все ли, однако, у нас в порядке? Сколько у меня шашек и винтовок?





