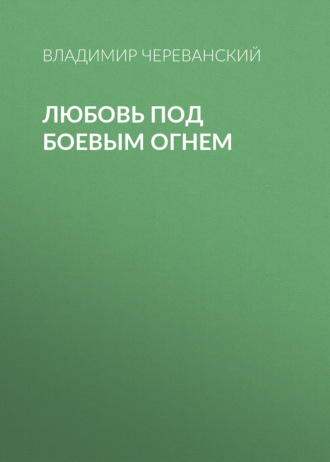 полная версия
полная версияЛюбовь под боевым огнем
– Вольск! За ним идут немцы с горчицей и немки с сарпинкой: Шафгаузен, Гларус, Базель, Цуг, Люцерн…
– Столбачи! Отсюда идут клады Стеньки Разина.
– Нобелевское королевство!
– Болда, а на Болде Астрахань! Пожалуйте, приехали!
Они входили в своеобразную гавань перед своеобразным городом. Гавань вмещала громадную флотилию судов всех типов и рангов. Рядом с трехэтажным пароходом тискалась дрянная лодчонка, бегавшая только на девять футов и обратно. Керосинники сталкивались с рыбниками. На капитанских мостиках показывались и флотские погоны под соломенными сомбреро, и персидские сахарные головы, и чалмы, и халаты.
Столица Астраханского царства, а потом Золотой Орды умудрилась построиться с таким правильным расчетом, чтобы Волга могла ее смыть без особого насилия. Старик Гамелин уверял, что для приведения этого института заразы на степень благоустроенного города мало человеческой жизни. С той поры миновало полтора века, и Ямгурчеево городище продолжает оставаться по прежнему протухлым местом свидания Европы с Центральной Азией. Мало того, сельдяные короли тщательно оберегают ржавую атмосферу своей столицы в предположении, вероятно, что бешенка не найдет без нее дороги в их тузлуки.
XXIIПоследняя восточная война представляла так много предметов для размышлений, что Скобелев решил испытать при помощи Можайского совершенно новые порядки удовлетворения солдатского аппетита. Дело это началось в Астрахани, куда по Волге шла масса продуктов для сплава через Каспий в Туркмению. В Астрахани Можайский преобразился в форменного человека.
– Вы, Евгений Онегин, с корабля на бал, – заметил Узелков дяде, торопившемуся в какую-то приемную комиссию. – Да и какой же вы теперь видный мужчина! Нужно признаться, что генеральская подкладка – недурное украшение.
Вошел слуга-армянин. Ему прежде всего понадобилось разогнать салфеткой мириады астраханских мух, осаждавших каждую каплю и каждую крошку. Потом уже он доложил о приходе полевого контролера Зубатикова.
– Кто за нас и кто против? – спросил Можайский, обменявшись официальными любезностями со своим сотрудником.
– За нас медики, а против – интендант с подрядчиками. Я должен признаться вашему превосходительству, что на меня посланы уже две жалобы в Тифлис.
Контролер гордился жалобами на него как аттестатами благонамеренности.
– Вам ли унывать? Вы испытали все контрольные тяжести восточной войны, а теперь наше положение далеко лучше тогдашнего. Михаил Дмитриевич на нашей стороне, а при этом условии не трудно сделать много хорошего. Объясните, в частности, что у вас случилось с картофелем?
– Наполовину с мязгой. Я приказал сварить суп из него и подать подрядчику – оскорбился!
– А с хреном?
– Вместо хрена он ставит мочалки.
– Прекрасно, идем в атаку!
На дворе, где шла приемка военных запасов, царила величайшая сутолока: подсушивали размякшие галеты, заделывали масло в бочонки, сортировали хрен, вывозили куда-то картофель…
– Что у вас делает купец Радункин? – спросил Можайский, увидев неожиданно Кронида Пахомовича на дворе приемной комиссии.
– Он-то и есть поставщик гнилого картофеля и мочалок вместо хрена.
– Приятно слышать.
Просвещенный волгарь был очень удивлен, увидев Можайского в роли главного наблюдателя за неизмеримыми аппетитами подрядной силы.
– Какая счастливая встреча! – восклицал он, когда Можайский отрекомендовался членом комиссии. – Вот теперь дело пойдет ходчее, а то у нас тут заминочки да придирочки…
– Насчет картофеля или хрена? – спросил Можайский с откровенной прямотой.
– Насчет всего-с.
– Осмотрим прежде картофель. Но здесь я вижу одни отбросы, а годный где же?
– То есть как отбросы?
Радункин как-то быстро потускнел и спал с голоса, развязности как не бывало, а Зубатиков, напротив, просветлел и принялся ворошить мязговатые комья.
– Неужели вы решаетесь предложить эту мерзость на продовольствие нашего отряда? Помилуйте, Кронид Пахомович, не то что желудок человека – ротный котел и тот запротестует против вашего компоста.
– Картофель действительно несколько тронулся…
– А цену-то вы взяли как за кондитерский товар?
Представитель интендантства все это время благоразумно молчал и даже удалился как бы по надобностям службы в совершенно пустой амбар. Прочие члены приемной комиссии, пришибленные жалобами, посланными в Тифлис, ободрились, так что битый неоднократно судьбой доктор Рымша и тот выступил гоголем.
– На хрен извольте взглянуть, – подсказал он Можайскому с несколько напускной решимостью.
– И на куколь, – подшепнул ветеринар.
– И на мясные консервы, – добавил громче всех полевой жандарм.
Можайский видел необходимость нанести решительный удар зарождавшемуся злу в самом начале экспедиции. День целый он провел в разного рода испытаниях припасов и грубыми приемами, и утонченными, и экспертизой, какую только можно было добыть в Астрахани.
– Господин Радункин, вам необходимо немедленно переменить все припасы, – объявил свое заключение Можайский, – иначе я телеграфирую командующему о необходимости отстранить вас от всякого участие в продовольствии отряда.
Просвещенный волгарь никак не ожидал подобного пассажа. С мольбой взирал он теперь на интендантского агента, который и не замедлил выступить с защитительным словом в пользу гнилого картофеля.
– Ваше превосходительство, такой строгостью вы лишите нас надежных подрядчиков, и отряд останется без продовольствия. Нельзя в хозяйственных делах обращаться с формальной неукоснительностью. Господин Радункин готов переменить, он улучшит и сдобрит…
– В какой же сорт вы запишете эту гниль?
– Где же здесь гниль?
– Сюда попало кое-что по недосмотру из второго сорта, – пояснял Радункин, – а гнили нет никакой. Но если вы так строги, то ради достоинства фирмы… я готов подвезти новый продукт.
– А хрен?
– Хрен точно что привял и как бы потерял свою природу. Выброшу – нечего делать! Убыток большой, но ради чести…
Покончив астраханские счеты, Можайский собрался в дальнейший путь; ему предстояло объехать весь восточный берег Каспия.
Переезд из Астрахани к морской пристани совершался тогда на небольших пароходах, щеголявших неопрятностью и отсутствием всякого комфорта. Дамам отводилась на них какая-то будочка, а остальной публике, и то которая почище, выставлялись захудалые диванчики.
– В капитанской будочке сидит таинственная незнакомка, – сообщил Узелков дяде, – она едет в Персию, англичанка. Задыхается под вуалью, но не поднимает ее, должно быть, из страха перед комарами.
– Когда ты успел узнать все это?
– А я сказал капитану – он из астраханских мещан, – что генерал требует назвать ему всех главных пассажиров.
– Ты злоупотребляешь подкладкой моего пальто.
– Тсс, слушай, дядя, слушай! Речь идет о тебе!
За стенками господских диванчиков расположилась на палубе артель, в которой шла оживленная беседа на тему сегодняшних событий в Астрахани.
– Посмотрел он, братцы, на картофель, – повествовал один из рабочих своим товарищам, – и кричит: «Позвать сюда подрядчика!» Пришло наше дитятко, да только без форсу. «Господин Радункин, – спрашивает, – вы ставите картофель? По-вашему это картофель?» – «Картофель, ваше превосходительство». – «А зачем он запах от себя пущает? Угодно вам скушать коклетку из такого картофеля?.. Эй, повар!» Наш-то взмолился и говорит: «Я по старой вере и картофель не употребляю».
– Хитер, бестия!
– Радункин, одно слово!
– Нет, ты насчет хрену, как он его хреном пронял!
– Позвать, говорит, подрядчика, что ставит хрен на царское войско. Опять же явился Радункин. «Рази это хрен?» – «Извольте, – говорит, – попробовать на скус». – «Ты еще грубить? В таком разе вот тебе три поганые корешка – уплетай!..» Ай, батюшки, – внезапно прервал себя рассказчик, – вон сидит, глазастый!
Артель воззрилась на Можайского с вопросом: «Как бы и нам чего от тебя не перепало за рассказ-то?» Но ей ничего не перепало, а все-таки она порешила перебраться на другую сторону парохода.
Узелкову ужасно хотелось расхохотаться. Ему особенно понравился приказ ревизора уплести три поганых корешка.
Вскоре, впрочем, он забыл и таинственную незнакомку в капитанской будочке, и интересный рассказ артели. Южная ночь манила его не то к дреме, не то к обычным мечтам молодых офицеров перед наступлением войны. Сначала он любовался неоглядной пеленой ярких звездочек, но скоро они приняли форму георгиевских крестиков и начали поминутно срываться с выси в темное пространство. Один из них угодил-таки ему на грудь и притом не просто повис, а был приколот женской рукой. Возле Георгия поместился Владимир с бантом, а там засияла вся грудь, и только глубокий сон прервал счастливые грезы поручика.
Можайский не мог так легко примириться с мириадами комаров. Охраняясь от этой силы, он решил укрыться в капитанской будке, служившей не только салоном для дам, случайно путешествовавших к Девяти футам, но и убогой читальней.
Незнакомка оставалась под вуалью. Можайскому показалось, что при виде его она вздрогнула и внутренне засуетилась. Библиотечного материала было немного: несколько номеров местного издания сельдяных королей да забытая пассажиром книжка о путешествии Васко да Гамы. Просмотрев в сельдяном органе цены на бешенку и улыбнувшись над размышлениями обывателя о том, что тузлуки способствуют процветанию Волги, Борис Сергеевич остановился на вуали незнакомки.
Ему казалось, что под этой легкой тканью идет сильная тревога. При всякой иной обстановке он счел бы нравственной дряблостью измерять глазами рост незнакомки, определять цвет ее волос, уловлять контур руки… а теперь точно ему подшептывало…
– Все равно вы заговорите со мной, это ясно, – прервала молчание незнакомка, приподнимая вуаль, – а играть с вами в прятки я не хочу…
– Вы, Ирина! – воскликнул он, порываясь на пожатие, а может, и на поцелуй ее руки. – Вы здесь! Но по какому случаю и куда вы едете? Здесь ведь конец света.
– Прежде всего сохраните мое инкогнито перед вашим молодым другом. Пусть я останусь в его глазах англичанкой, не понимающей по-русски.
– Хорошо, но, право, я не могу прийти в себя. Откуда вы и куда?
– Из Англии, куда я ездила по требованию мистера Холлидея представиться его родным, и направляюсь в Персию, куда он уехал с экстренным поручением в тамошнее посольство.
– Вы были в своей усадьбе?
– Нет, мне было тяжело ворошить прошедшее. Притом же, вероятно, и безмятежная тишина Гурьевки навевает впечатление могильного склепа.
Оба они задумались.
– Ирина Артамоновна, я унес с собой ваш дневник, но, видит бог, я не прочел из него ни одной строчки.
– Я оставила его в предположении, что отец заглянет после моего бегства ко мне в комнаты и прочтет мои признания. Но теперь, если вы желаете сохранить обо мне память, оставьте его у себя. Мои признания послужат объяснением многих загадочных для вас вопросов.
– Вы куда?
– В Энзели, а вы?
– Я мимо Энзели к Чекишляру.
– Следовательно, мы пробудем на одном пароходе около пяти суток, очень рада. Я всегда хорошо чувствовала себя в вашем присутствии.
– Разрешите ли говорить с вами во время дороги?
– Только не при Узелкове. Ах, не он ли глядит в окно?
Можайский поспешил выйти из рубки.
– Молода, красива? – запрашивал дядю Узелков. – Познакомились?
– Чистокровная англичанка! Губы на вздержке, ланиты из непрожаренного бифштекса и, вероятно, потягивает через соломинку замороженное шампанское.
– Бог с нею, пусть потягивает! – решил великодушно Узелков. – Говоря откровенно, английская мисс не в моем вкусе. Вот если бы Тамару встретить!…
– Это где же, на девятифутовой пристани или в Туркмении?
– На Кавказе. Кавказ без демона и Тамары немыслим. Повоюю в Теке, прихвачу Владимира с бантом и анненский темляк… а потом в горы Кавказа на отдых – и, Тамара, где ты?
XXIIIНа взморье, у девятифутовой пристани, суда обмениваются волжскими и каспийскими грузами и пассажирами; здесь круглые сутки стоит неумолчный гул трудовой жизни. Взморье в эту ночь отдыхало. Морской пульс поднимал ритмические волны, отражавшие бесконечные снопы судовых огней. Во мраке ночи суда казались титанами, всплывшими из морской бездны, чтобы подышать и понежиться на золотой волне.
На одного из этих титанов при помощи матросов и при свете ручных фонарей перешли пассажиры речной посудины. Взбираясь по трапу, Можайский поддерживал даму с вуалью.
– Один из Тавасшернов, – рекомендовался ему капитан морского парохода. – К сожалению, мои обе каюты заняты, но если ваша супруга не побрезгает салоном…
– Не упреждайте, капитан, событий, я не женат! – пошутил Можайский. – Дама, которую вы видите – она не расстается с вуалью в страхе перед вашими комарами – супруга английского агента в Персии.
– Миссис Холлидей! Прекрасно! Ее каюта свободна, и я немедленно снимусь с якоря. К сожалению, сильное падение барометра предвещает свежую погоду, а у меня, как на грех, набралась целая толпа детишек…
– Имейте в виду, что миссис Холлидей женщина-врач и именно по детским болезням.
– Прекрасно, но англичанки слишком заражены своим британским величием, и, пожалуй, она не осчастливит своим вниманием мою мелкоту.
– Напротив, сколько я знаю, она женщина с необыкновенно доброй душой. В случае необходимости рассчитывайте и на меня, капитан, как на фельдшера.
– Спасибо.
Обруселый, хотя все еще угрюмый с виду норвежец, не тратя слов и времени, призвал к общей работе все подвластные ему мускулы. С высоты своего мостика он пустил в ход электрические кнопки, рупор и хорошо развитые легкие, привыкшие осиливать basso profundo освирепелой бури.
Буря же, очевидно, приближалась серьезная. Прежде всего утонула или куда-то исчезла позолота волны, потом застонали и заскрипели снасти, и, наконец, пульс моря начал беспорядочно раскидывать брызги и пену.
– Не боитесь ли вы качки? – заботливо спросил Можайский, провожая в каюту Ирину Артамоновну. – Капитан предвидит бурю.
– Не знаю, кажется, я не подвержена морской болезни.
– Станете помогать больным, хотя бы только детям?
– Если вы будете моим помощником.
Можайский ответил пожатием руки.
– Мне не хотелось бы оставаться под этою глупой вуалью, но наш милый Узелков феноменально несносен. Он испортит мне всю дорогу.
– О, в таком случае я отправлю его в Астрахань.
– Речной пароход еще у борта.
С этой мыслью Можайский отправился в общий салон, где и нашел Узелкова в тяжелой заботе о забытом в Астрахани кителе.
– Терпеть не могу морской качки, – ворчал Можайский, раскладывая свои вещи, – а тут как нарочно надвигается морская сутолока. Главное же, я оставил портфель в Астрахани.
– А я – китель в гостинице.
– Китель? Ты явишься в отряд без кителя? Это, мой друг, непорядок.
– Вот я и думаю, не возвратиться ли мне в Астрахань? На следующем пароходе я перегоню вас прямым рейсом.
– По правде сказать, я даже удивляюсь, с какою целью ты едешь в круговую прогулку. Мне нужно по делам, а тебе?
– Тогда благослови, дядя, обратно в Астрахань.
– И думать не о чем, прощай!
Узелков быстро перебрался на речной пароход, который и поторопился укрыться от надвигавшейся грозы между камышовыми плавнями одного из рукавов Волги.
По признаниям физиологов и по законам отцов греческой драмы, суждения человека об одном и том же предмете зависят от таких краеугольных камней, как время, место и обстоятельства. Физиологи допускают, впрочем, и исключения из этого общего правила, прежде всего для строго уравновешенных натур, а потом для чувства искренней любви. Относительно любви отцы греческой драмы прямо-таки утверждают, что она не признает над собой господства ни полярного круга, ни тропиков и так же смело командует сердцами во время циклона, как и при нежных звуках арфы…
Необычайно сильная качка и свист бури не препятствовали Можайскому предаваться размышлениям, насколько верны положения, которым там рабски подчинялись классики Эллады. Впрочем, от этих обветшалых старцев он не затруднился перескочить умственным взором к более современным правоведам в области ума и сердца. Пропустив мимо себя Леббока и Спенсера, он остановился было на мрачном Шопенгауэре, но и этому не посчастливилось. Да и действительно: кому приятно услаждать себя доводами о том, что жизнь – несчастье, а любовь – преступление? Немало повел народу граф Лев Толстой за многими из своих тезисов, но когда он объявил, что любовь к женщине, как к объекту, расхищающему достоинство человека, преступна… на зов его откликнулись только поизношенные и хилые субъекты.
Однако пароход, казавшийся ночью в тихую погоду титаном, умалился перед бурей, и хотя он все еще бодро разрезал волну, но уже вздрагивал и отфыркивался фонтанами брызг.
– Давно не было такой свежей погоды! – заявил Тавасшерн, входя в общий салон. – Как вы полагаете, согласится ли миссис Холлидей открыть у меня амбулаторию для детишек?
Капитан интересовался в жизни только своим судном и маленькими детьми. Много лет тому назад волна смыла за борт двух его сыновей, и с той поры он не мог видеть детских страданий.
– Думаю, что она охотно позаботится о ваших детях, – отвечал Можайский, лениво расставаясь со своими мыслителями. – Притом же, помните, что она хорошо говорит по-русски.
– Англичанка – и говорит по-русски, да это прелесть! – воскликнул капитан, выбегая из салона.
Каюта миссис была неподалеку.
– Извините, это не я беспокою вас, а мои пароходные дети, – оправдывался он, постучавшись в дверь каюты. – Аптека у меня хорошая, а врач остался на берегу, не поможете ли?..
– Конечно, с большим удовольствием, – послышался ответ из каюты.
– Но как вам быть без помощника?
– Попросите господин Можайского.
Капитан вновь появился в салоне.
– Ваше превосходительство, – взмолился он перед Борисом Сергеевичем, – без вашей помощи обойтись невозможно. Не за себя прошу – за деток, они ревут пуще морской бури, а которые послабее, те уже позеленели точно перед смертным часом.
Можайский не заставил себя упрашивать. Он проводил женщину-врача в аптечную каюту, а капитан отправился к пассажирам подбодрить их предложением медицинской помощи. В аптеке едва можно было повернуться. Окинув испытующим взглядом всю систему расположения лекарств, женщина-врач обратилась к своему помощнику с наказом:
– Извольте вносить сюда детей, но если вы брезгливы…
– Нет, право, нет! – возразил Можайский, забывая, что фемистоклюсы никогда не веселили его взор.
– Прикажите подать сюда теплой воды. После каждого ребенка окунайте руки в этот раствор и не мешкайте.
Когда объявление о медицинской помощи достигло пострадавших от морской болезни, то первым пациентом появился у дверей амбулатории верзила-персиянин.
– Этого пациента я не могу ввести к вам, – объявил Можайский. – Он здесь не поместится. Представьте себе переносчика тяжестей, на спине которого может поместиться концертный рояль. У него на ноге стерты три пальца, так что противно смотреть.
– А если противно, так возвратитесь на бархатный диван к сигаре и газете, но прежде скажите этому страшному человеку, чтобы он выставил сюда свою раненую ногу.
Можайскому не было времени ни возражать, ни оправдываться; разумеется, он не возвратился на бархатный диван и уступил свое место верзиле с его истерзанной ногою.
– Без хирургической операции не обойдется, – объявила миссис Холлидей с чувством сожаления. – В первом попутном городе его нужно сдать в больницу, но если не наложить теперь же антисептическую повязку, то у него образуется гангрена. Обмойте его рану, а я тем временем приготовлю повязку.
Можайский не готовился в фельдшера, и все-таки ни один чернорабочий не имел такого усердного, как он, брата милосердия. Докторша поблагодарила своего помощника ласковой улыбкой. Верзилу заменил русский священник в бедной рясе и порыжелой шляпе.
– Девочку мою лихорадка треплет… если что возможно…
– Вы где помещаетесь, батюшка? – спросила миссис Холлидей.
– По нашим недостаткам, на палубе.
– Борис Сергеевич, возьмите ребенка на руки и отнесите в мою каюту. Пусть горничная уложит его на диван и не отходить, пока я не приду. Батюшка, у вашей дочки действительно лихорадка, и на палубе в такую непогоду ей будет дурно. Пусть она побудет в моей каюте, доверяете?
– Сказывают, что вы иноверка, но, может быть, вы примете благословение от православного священника?
– С удовольствием и благодарностью.
После батюшки заглянула молодка:
– Мому мужу от запоя не дадите ли чаво?
– Не место, матушка, и не время, – строго заметила докторша. – Вези его на берег и лечи. Но почему не несут детей? Борис Сергеевич, обойдите пароход.
Скоро амбулатория не могла пожаловаться на недостаток практики. При бессилии, однако, медицинской помощи против морской болезни докторша предпочла собрать в свою каюту всех плакс и ревунов кавказского прибрежья и вместо аптечного зелья предложила им поднос со сластями.
– Борис Сергеевич, я очень устала, – объявила она наконец, – но прежде чем появится у меня тошнота, отведите меня в каюту. Об одном прошу вас, при первом же приступе морской болезни оставьте меня.
– Вы лишаете меня возможности служить вам?
– Да, но из побуждения, которое граничит с кокетством. Морская болезнь уродует человека, а мне хотелось бы, чтобы вы… именно вы…
Но барометр уже поднимался.
– Господа, я предсказываю, что ваши подвиги милосердия увенчаются достойной вас наградой, – пообещал Тавасшерн, заглянув в амбулаторию.
– А именно, капитан?
– Переходом от шторма – поймите, мы шторм выдержали! – к приятному зефиру, от каспийской сутолоки к длинной и мягкой волне и, наконец, прекрасным обедом с осетрами и стерлядями.
Предсказание сбылось, обед вышел на славу.
– В честь добросердечной женщины, к какой бы нации она ни принадлежала! – провозгласил тост милый капитан. – По влечению же сердца и по просьбе команды прошу позволения поцеловать руку, которая не отказалась перевязать тяжелую рану моего матроса.
Капитан не встретил отказа.
– За ваше здоровье, как за хорошего товарища во время морской бури, – проговорила вполголоса миссис Холлидей, протягивая свой бокал Можайскому. – Сегодня я убедилась, что истинная дружба отлично познается во время шторма.
– Я могу только отвечать пожеланием являться к вам на службу при каждом девятом вале на вашем жизненном пути, – выразил и свое пожелание Можайский.
– Обмен вашими любезностями подтверждает, что счастливо обойденная опасность располагает к возвышенным и нежным чувствам.
Таково было мнение капитана Тавасшерна. Его мнению готовы были верить и миссис Холлидей, и Можайский, предпочитавшие, однако, подтвердить свое согласие пожатием рук – не для всех заметным и потому более долгим и сердечным, нежели то предписывается застольными порядками.
XXIVНа третьи сутки пароход скользил уже по слою нефти, следовательно, у берегов Апшерона. Путникам открылся Черный городок с его обычной картиной: сотнями высоких заводских труб, старательно коптивших небо и неустанно распространявших непроницаемую тучу дыма. Необычным казалось только появление на Балаханской площади колоссальных столбов пламени, наводивших ужас на каботажную флотилию.
Там на площади возле целого строя деревянных вышек, покрывающих колодцы с нефтью, клокотало в огне озеро, подожженное чьей-то неосторожной, а может быть, и преступной рукой. Озеро накопилось в последние дни из неожиданно брызнувшего фонтана. Его не могли закрыть никакими механическими запорами, и он продолжал выбрасывать в добычу огня тысячи пудов горючего материала. Только в Пенсильвании и возле Баку можно видеть изредка подобные грозные явления.
Пароход не успел причалить к пристани, как на нем появился контролер – второй экземпляр Зубатикова.
– Фруктовая кислота с большими примесями, как прикажете? – отрапортовал он Можайскому с места в карьер.
– Я должен признаться, что не имею никакого понятия о фруктовой кислоте.
– Это набор полузрелых фруктов. В отряде они будут служить приправой к пище для предупреждения цинги.
При всем важном значении фруктовой кислоты контролер окончил свой доклад вопросом:
– Не побываете ли на пожаре?
– Разве это так интересно?
– Адская картина! Сперва вспыхнуло озеро, а потом огонь перебросился к фонтану, и теперь вышки пылают ярче факелов.
Сказав слишком много постороннего, второй экземпляр Зубатикова обратился к настоящему делу:
– Слива хорошо выглядит в кислоте, но абрикос попал уже в мягком состоянии.
Можайский отправился в город решать вопрос, действительно ли абрикос попал в кислоту в мягком состоянии. Дорогой он заметил, что бакинцы объяты ужасом, точно под их ногами не осталось ни одной капли нефти. Такою паникой могли бы быть охвачены одни только астраханцы при вести, что бешенка оставила навсегда их Волгу.





