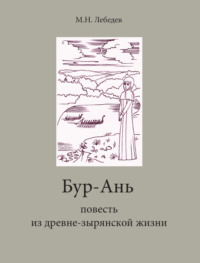полная версия
полная версияСон великого хана. Последние дни Перми Великой (сборник)
– Ну, так и поедем «в Кремля», только какова-то встреча будет!.. – усмехнулся один из рязанцев и пустил своего коня к ближайшим кремлевским воротам, гостеприимно открытым настежь. Остальные последовали за ним.
– Стой! Куда? – закричали охранявшие ворота московские воины, решительно загораживая дорогу. – Что надо?
– Я – гонец хана Тохтамыша! – Ткнул себя в грудь князь Ашарга, важно подбочениваясь в седле. – Я ярлык ханская везет до князя Василия! Прочь с дороги!..
– Это посланец хана Тохтамыша Ордынского, князь Ашарга, – пояснили рязанцы, сурово поглядывая на москвитян. – Он грамотку ханскую привез, сиречь цидулку князю вашему… Проведите нас во двор княжий.
– Э, не спеши, прислужник прислужников ханских! – Тряхнул головою старший из воинов, не упустивший случая кольнуть рязанцев «прислужничеством» их перед татарами. – Поспешишь – людей насмешишь, есть пословица. Перед татарвой мы не больно-то трухаем…
– А ты не кобенься! – рассердился рязанец постарше. – Видали мы вашего брата!.. Князь Ашарга по важному делу приехал. Дома ли князь великий?
– Може, дома, а може, и нет! – Не терял своего заносчивого вида москвитянин. – Не жалуют нынче у нас татарву некрещеную. Москва – не Рязань богопротивная.
– Москва Рязани не указка! – отрезал рязанец. – Наш славный князь Олег Иванович не щедротами московскими живет. И мы от Москвы благ не видим… Веди скорей нас на княжий двор…
– Не спеши, не спеши, птица рязанская! И поважнее люди у нас по суткам у кремлевских ворот стоят! А татарва поганая да рязанщина богопротивная и подавно постоят!..
– А и чванлив же ты, пес подворотный! – выругался рязанец, выведенный из себя спесью московского воина. – Не по разуму зазнался ты! А того и в голову твою не вмещается, что не всегда чванство к поре!.. Беда грозит земле Русской! Тьмы воинств неведомых ополчаются на Орду Кипчакскую, а с нею и на княжества русские! Князь Ашарга грамотку об этом привез. А грамотку эту нужно немедля же передать вашему князю московскому! Понял ты, голова дурья?
Москвитянин вытаращил глаза.
– Тьмы воинств неведомых, говоришь ты?.. На княжества русские ополчаются?.. Да, может, на Рязань только, а не на Москву нашу?..
– А Москва-то чем же свята? Не лучше Рязани нашей!.. Да нечего растабаривать с тобою! Веди нас на княжий двор… Не толкуй, чего не подобает, а веди. Там разберут.
– Веди нас к княжей кибитка… веди! – горячился и ханский гонец, оскорбленный московской непочтительностью. – Гайда, москов! Как можно под ворота стоять! Честь хана великой… честь нада давать! Кынязь Василь – дружба хана… Честь хану отдавай!..
– Неведома для нас, какая честь хану подобает, а свести вас на княжий двор – сведем, – вымолвил наконец москвитянин, убежденный более известием о «тьмах воинств неведомых», а не доводами рязанца и криком князя Ашарги. – Мне что? Мне все едино… Слезайте, что ль, с коней-то. У нас ворота сии только князь великий да бояре и люди служилые на конях проезжают. А вы и пешком пройдете.
– Как пешком? Я не пешком хадить! – запротестовал гордый татарин, не ожидавший ничего подобного, но старый рязанец незаметно толкнул его под бок и прошептал по-татарски:
– Смирись, князь Ашарга. На Москве невзгодье Орды чуют, вот и задирают нос кверху. На Москве лукавые люди. На Москве так: куда ветер, туда и москвитяне! Смирись!..
– О, шайтан! – пробурчал себе под нос ханский гонец и начал слезать с седла, кидая по сторонам свирепые взгляды.
– Вот так-то лучше будет! – насмешливо улыбнулся москвитянин и переглянулся с товарищами, с злорадством наблюдавшими за тем, как исконные враги и угнетатели земли Русской исполняли их приказание.
Да, отходило, видно, время раболепного преклонения перед ханами Золотой Орды. Положим, могущество ханов было еще значительно: в 1382 году хан Тохтамыш разгромил Московское княжество, причем были разграблены и сожжены города Москва, Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск, Дмитров, Серпухов, Коломна и другие; было также разорено и Рязанское княжество, хотя князь Олег Рязанский и считался союзником Тохтамыша, – но Куликовская битва у всех оставалась в памяти, и победа Дмитрия Ивановича Донского над Мамаем показывала, что монголов еще можно побеждать, если действовать единодушно и решительно. В 1383 году сын Донского, Василий Дмитриевич, по поручению отца ездил в Орду для засвидетельствования перед Тохтамышем «покорности московского великого князя»; при этом было установлено, что баскаки ордынские снова станут разъезжать по Русской земле и собирать вновь назначенную тягостную дань. Особенно дань эта была обременительна для крестьян-земледельцев. Например, с каждой деревни, состоящей из двух или трех дворов, брали полтину серебром, что было по тому времени немалою суммой; с городов требовали и золото. В довершение горя, княжича Василия Дмитриевича вместе с сыновьями князей тверского и нижегородского удержали в Орде в залог того, что дань в количестве восьми тысяч рублей[2] будет своевременно уплачена русскими владетелями, и Русь на короткое время опять очутилась в ненавистном рабстве. Но это скоро прекратилось. Через четыре года юный Василий Дмитриевич бежал из Орды, в 1389 году отец его, князь Дмитрий Иванович, скончался и московским великим князем был провозглашен Василий Дмитриевич. Не сразу новый великий князь стал в неприязненные отношения с Ордою, в 1392 году он даже ездил в ханскую столицу Сарай на свидание с Тохтамышем, но тогда уже началась война между Тохтамышем и Тамерланом, и монголам Золотой Орды стало не до русских. В необозримых степях нынешней Астраханской губернии произошло кровопролитное сражение между потомками Чингисхана, и Тохтамыш был разбит наголову Тамерланом, сокрушившим в один час могущество Золотой Орды. Это случилось в том же 1392 году, через месяц после отъезда великого князя из Орды, – и так как грозный завоеватель Тамерлан удалился в свою столицу Самарканд, а Тохтамыш занялся новым сбором войска для продолжения войны со своим врагом, то Москве уже ничто не угрожало и она «подняла нос кверху», как выразился рязанец. Оттого-то теперь ханского гонца Ашаргу и встречали так, а это были еще простые воины. Чего же можно было ожидать от великого князя и бояр?! Татары кусали губы от злобы, но поделать ничего не могли. То же было и с рязанцами. Князь рязанский Олег не раз ополчался на Москву, и Москва, в свою очередь, не раз мстила Рязани, ввиду чего рязанцы и москвитяне сильно недолюбливали друг друга. Не примирила враждующие стороны и женитьба старшего сына Олега, Феодора, на княгине московской Софии Дмитриевне (сестре Василия Дмитриевича): Москва помнила частые измены Рязани русскому делу и примириться с нею не могла.
– Ну, идите, что ль? – по-прежнему грубо крикнул старший из московских воинов, когда татары и рязанцы спешились. – Лошади ваши у места будут. Не бойтесь. Не польстимся мы на ваших кляч…
– Эк, сказал! – не утерпел молодой рязанец. – Да у вас таких-то коней и не видывали! Не сумеете вы и сесть на наших кляч: не по рылу калач, стало быть!..
– А ты не галди через меру-то! Не в Рязани ты, а в Москве! – покосился на смельчака москвитянин, но потом ничего не сказал и молча повел приезжих к великокняжескому дворцу.
На дворцовом крыльце ханского гонца встретил очередной дьяк и, не кланяясь ему, не справляясь о здоровье, спросил, ради чего он прибыл в стольный град Москву. Узнав, что Ашарга привез грамоту Тохтамыша, повел его во внутренние покои дворца, а спутников его велел отвести в земскую избу с приказом, чтобы там накормили и напоили их.
– А кынязь Василь в доме? – спросил Ашарга, проходя с дьяком по многочисленным переходам дворца.
– Дома князь великий Василий Дмитриевич, – степенно и важно отвечал дьяк. – Только сейчас уехал он… никак, в усадьбы боярские, подмосковные…
– А кто ж ярлык читай?
– А вот войдем в палату приемную, так увидим. Там князь Владимир Андреевич есть и двое бояр с ним – Александр Поле да Дмитрий Всеволож. Они разберут, что и как.
Татарин кивнул головой, и они вошли в приемную палату. При входе дьяк шепнул Ашарге: «Сними шапку-то», и тот нехотя повиновался. Но ослушаться дьяка он не смел: слишком уж неприветливо принимали его в Москве и не хватало духу восставать в защиту своей азиатской чести. Ашарга втайне бесился. Какой строптивый народ эти москвитяне, сладу с ними нет! Не далее как два-три года назад московский великий князь чествовал ханских послов как дорогих гостей; бояре перед ними чуть на коленях не ползали, а теперь – другим духом понесло! Москва – коварная страна! Если силы у нее не хватает, она льстит, изъявляет покорность, а чуть почувствует силу, тогда сторонись с дороги! Берегись!.. Ашарга думал, что в дворцовой приемной ему придется вынести еще более горькие оскорбления, но он, к своему удивлению, ошибся.
– Вот, князь, гонец хана Тохтамыша Ордынского, – вымолвил дьяк, обращаясь к Владимиру Андреевичу. – Грамотку ханскую привез князю великому…
– От хана Тохтамыша? – с живостью воскликнул князь Владимир Андреевич, поднимаясь с лавки, где он сидел с боярами Поле и Всеволожем. – Чего ж пишет хан?
Ашарга стоял неподвижно, ожидая, как отнесется к нему дядя великого князя. Бояре сурово оглядели татарина с ног до головы, поглаживая для важности свои бороды, но князь Владимир Андреевич ласково кивнул головою ханскому посланцу, подошел к нему и, зная по-татарски, спросил на родном его языке:
– Как тебя по имени зовут, гонец ханский?
– Князь Ашарга, из почетной стражи хана великого, – отвечал татарин, не ожидавший такого ласкового обхождения.
– Так, буди здрав, князь Ашарга, – проговорил Владимир Андреевич, не отличаясь от природы ни горделивостью, ни грубостью в обращении. – О чем же пишет хан великий?
– Вот ярлык ханский, княже благородный, – подал Ашарга ханскую грамоту Владимиру Андреевичу, проникаясь к нему все большим уважением и признательностью. – Великий хан приказать изволил передать ярлык сей князю московскому Василью, а если не случится его, то ближним людям его. А славного князя Володимера знают и на Руси, и в Орде нашей. Сам великий хан Тохтамыш любит и чтит князя Володимера как брат брата…
– Да будет здрав и счастлив хан Тохтамыш! – в тон татарину ответил Владимир Андреевич и, приняв грамоту, поспешно распечатал и развернул ее.
– Читай, дьяче, – передал он ее дьяку, и тот начал читать громко и выразительно:
– «От Тохтамыша-хана, обладателя многих земель и народов, привет братский и поклон великому князю московскому Василию.
Ведомо тебе, княже, какую дружбу питаю я к тебе, и ты не враг мой, а посему упреждаю я тебя о беде великой, которая грозит улусам моим и твоим градам и весям. Три лета прошли с тех пор, как ты побывал в шатре моем гостем почетным, чествовал я тебя с сердечною ласкою и усердием, на княжение нижегородское ярлык дал, царевич Улан, посол мой, рассудил тебя с князем Борисом Городецким и получил ты просимую область. И вот прошли три лета – и подул ветер с другой стороны. Попущением Всемогущего Бога проявился в странах восточных хан самозваный, именем Тимур, или Тамерлан, собрал он воинство несметное и пошел на меня бранью. Но я не готовился к бранным делам, в мире жить со всеми было желание мое, однако встретился я с ним на поле ратном три года назад тому и – уступил ему. Но он, мятежный хан чагатайский, возомня себя превыше Бога Всемогущего, снова ополчился на страны мои, возгласил себя сагеб-керемом, что значит – владыка мира, и дерзнул грозить мне, что-де предаст державу мою ветру истребления. Сиим похвалам непристойно было внимать мне, истинному потомку Чингисхана и Батыя, и вот я сказал: иду на Тимура! – и пошел. Великий Бог всемогущ. Надеюсь на Его помощь! В день и час писания сей грамотки стою я со своими верными князьями, мурзами и батырями, со всеми бесчисленными тьмами воинств своих, в стране каменных гор, на берегу реки быстроструйной, а против меня стоит дерзостный Тимур – и готова решиться судьба одного из нас. Настал час крови и мести… Внимай мне, верный друг мой и брат, князь Василий! Никогда не обижал я тебя, и ты не перечил мне, а что было давно, при отце твоем князе Дмитрии, тому не пора ли забыться? И вот, говорю я тебе, и ближнему советнику твоему, князю Володимеру, и митрополиту московскому Киприану, и всем князьям, боярам и воеводам земли Русской, страшитесь самозваного хана Тимура, не слушайте льстивых речей его, если пришлет он послов, и собирайте дружины свои, выступайте к рекам Волге и Оке на защиту своих жен и детей и достояния своего, ибо неведомо, кто победит: я или Тимур? А если постигнет меня гнев Божий, если Тимур поборет меня, уповаю я на дружбу твою, князь Василий, и ты поможешь мне, ибо никогда я не утеснял тебя. Собирай же дружины свои, брат мой и друг, князь Василий, и все князья русские, и не страшны для вас будут тьмы воинств мятежного хана Тимура Чагатайского.
Бог великий и бессмертный, что на Небесах, благословит все деяния ваши. А я желаю тебе вожделенного здравия и жизни счастливой. Не мешкай же, друг мой и брат, князь Василий!..»
Дьяк дочитал и смолк. Князь Владимир Андреевич взял грамоту из рук читавшего, внимательно осмотрел подпись и печать ханскую и пробормотал:
– Да, грамотка не облыжная. Тамга и рука Тохтамышева… Неужто не чает он управиться с Тимуром? Оттого и сладок больно: другом и братом князя великого называет. А Тимура бояться надо…
Он помолчал немного и, вертя грамоту в руках, спросил у гонца:
– Так, значит, великий хан Тохтамыш на поле брани против Тимура стоит?
– Истинно так, князь. Только река промеж них была.
– И готовился он битву затеять?
– Без битвы не отступит он. Не таков пресветлый хан, чтоб устрашиться Тимура дерзостного. На то он и пошел в страну каменных гор[3], чтобы встретить врага своего. Оттуда и приехал я, только сутки в Рязани прожил. Не один десяток коней загнал… Где же князь великий Василий?
– За город куда-то отбыл. Ступай, дьяче, поспрошай: не вернулся ли в Кремль княже великий? Грамота-де важная есть, доложь. Совет держать надо. А ты, князь Ашарга, следуй за дьяком, отведет он тебя в земскую избу для жилья и отдыха. Да смотри, дьяче, чтоб никто не утеснял татар; повадка эта у вас есть. Чтобы пальцем их никто не тронул. Слышишь?
– Будет исполнено, княже, – смиренно поклонился дьяк и, шепнув Ашарге: «Айда, князь!» – хотел выйти с ним из палаты.
В это время в сенях послышался какой-то шум. Раздались торопливые шаги, и в палату не вошел, а вбежал боярин Федор Константинович Добрынский, ведя кого-то за руку.
– Вот новый гонец, княже, – заговорил он, выталкивая вперед рослого молодого воина с приятным русским лицом, покрытым густым слоем загара и пота. – От князя Олега Рязанского. Послал князь Олег грамотку… вдогонку за посланцем ханским…
– Чего еще? – беспокойно спросил князь Владимир Андреевич, вскакивая с места. – Неужто о Тимуре что?
– О нем самом, княже. Вот грамотка князя Олега, изволь прочесть… Победил Тимур Тохтамыша, на Русскую землю идет… В Рязань татарин прискакал с побоища… говорит, все пропало – Тохтамыш в бегах, а Тимур за ним по пятам! Вот князь Олег и упреждает нас…
– Ах, Господи! Опять беда! – воскликнул Владимир Андреевич и, прочитав грамотку Олега, обратился к трем другим дьякам, вошедшим в палату вместе с Добрынским – Третьяк! Лобан! Пошлите вершников за князем великим… сами скачите! Немедля зовите его во дворец. Нельзя мешкать ни часу… Зовите на совет бояр ближних… А ты, Косяк, живым духом в Симонов слетай и проси владыку-митрополита. Мудр и рассудителен святитель, вникнет умом своим светлым в дело сие. Да ты каптану захвати, чтобы без замешки было.
– Слушаем, княже, – почтительно отозвались дьяки и сразу исчезли из палаты, бросившись исполнять приказание.
А бедный князь Ашарга, услышав потрясающую новость о поражении своего хана, изменился в лице, задрожал и уже не помнил, как очутился в дворцовых переходах, как сошел с крыльца, как перешел через широкий двор, и очнулся только в земской избе, куда его привели два воина по приказанию великокняжеского дьяка и бесцеремонно втолкнули в дверь.
– Пропала Орда!.. Пропал хан! – со слезами на глазах бормотал татарин, нелицемерно любивший свой народ и своего хана, и не сразу его спутники, ждавшие его в земской избе, поняли, о чем толкует ханский гонец и о чем он сокрушается, будучи еще недавно таким задорливым и смелым перед русскими.
Но недоумение их скоро разрешилось. Ашарга объяснил, в чем дело, – и непритворное горе и отчаяние овладело сердцами диких сынов степей и равнин, понимавших, какая страшная опасность угрожает их родным улусам, женам и детям при нашествии полчищ единоплеменного, но враждебного им Тимура, или Тамерлана.
V
Никогда великий князь московский не бражничал с такою бесшабашностью, как вечером этого дня в Сытове, накануне праздника Господня, угощаемый удалым Сытой. Мед и брага не действовали на Василия Дмитриевича, раздраженного укорами Федора-торжичанина, понесшего уже кару за свою смелость, и гостеприимный боярич вытащил из темных погребов не одну «посудину» с заморским вином, благо отец его, новгородский наместник Евстафий Сыта, имел возможность получать подобные «пития» непосредственно из рук немцев. В Новгороде в то время процветала торговля с купцами иноземных городов Любека, Риги, Дерпта, Ревеля и других, было немало голландцев, торговавших предметами роскоши, – и наместнику великокняжескому нетрудно было доставать заморские редкости, не виданные даже в самой Москве.
– Эх, други мои, – оживленно говорил Василий Дмитриевич, развеселяясь под действием крепких вин, – и пью я напиток хмельной, и в голове сильно шумит, и на сердце веселей становится, а все напиться не могу! Еще и еще надо!.. А ты, брат Сыта, насулил мне всего, когда в Сытово звал, а приехали в Сытово – ничего, кроме зелий хмельных, нет! Не годится так делать, друже!..
– Кажись, от чистого сердца угощаю. Ничего не жалею я, чтоб угодить твоей милости, княже. А ежели не хватает чего, то не прогневайся: значит, нет того во всем Сытове нашем…
– Подлинно ли нет, брат Сыта?
– Нету, государь. Если б было, не жалел бы я…
– Э, полно, друже! Не жалеешь ты, а запамятовал, верю я. А вспомни-ка, о чем ты говорил, когда звал сюда.
Боярич хлопнул себя рукою по лбу и воскликнул:
– Ах, батюшки! У меня и из головы вон. А вы, други сердечные, и не надоумите, – обратился он к Всеволожу и Белемуту, составлявшим совместно с хозяином интимную компанию великому князю. – Опалу на нас наложит государь…
– А следует! – смеялся Василий Дмитриевич, хлопая по плечу Сыту. – В другой раз неповадно будет!..
– Повинную голову меч не сечет, – промолвил Белемут, присоединяясь к хохоту великого князя. – А ты, Михайло Евстафыч, познал вину свою. Ну, и простит тебя княже великий…
– А нас и подавно! – перебил Всеволож, ездивший в Кремль по поручению Василия Дмитриевича. – Княжье милосердие что Божие терпение – долго надеяться на него можно. А вот как батюшка мой, боярин именитый Дмитрий Александрович Всеволож, на меня поглядит – не ведаю. Коли узнает он, что под праздник я бражничал, беда спине моей! Походят по ней руки батюшкины, а не то и плетка ременная…
– Не бойся, Сергей, бражничай, коли сам великий князь московский бражничает! – лихо передернул плечами Василий Дмитриевич и пополнил объемистые «достоканы» дорогим немецким вином. – Праздник сам по себе и мы сами по себе! Бери и пей, Сергей, и ты, Белемут, пей. Пейте, братцы! – крикнул Василий Дмитриевич Всеволожу и Белемуту и опрокинул в рот свой достокан. – Не все же тосковать-горевать. На все пора своя есть. А нынче тихо кругом: ни татарва, ни литва не шевелятся. Тохтамышу теперь не до нас: с Тимуром Чагатайским связался, а Витовту совестно на зятя своего оружие поднимать: все-таки свойственник как-никак!.. Нынче-то и погулять мне, а там когда еще удастся…
– Только бы Тимур Чагатайский на Русь не пошел, – осторожно заметил Белемут, выпивая свой достокан и вытирая губы. – А прочее все благо…
– Не каркай, как тот юродивый! – нахмурил брови Василий Дмитриевич, стукнув кулаком по столу. – Тимур с Тохтамышем грызется, ну и пусть их! Чтоб им друг друга загрызть! А наше дело сторона…
– Да я не к тому, княже… Я не каркаю. Боже меня сохрани…
– Ну, ладно, ладно. Нечего лясы точить. Пойдем лучше в сад.
В саду уже собирались девушки, согнанные слугами Сыты. В Сытове жили зажиточно, даже богато в сравнении с другими селениями, потому что Евстафий Сыта не обижал крестьян, и девушки были в ярких праздничных нарядах, с разноцветными лентами в косах, слегка развеваемыми ветром. Боярич строго-настрого приказал, чтобы все приоделись «как в Пасху Христову», и ослушаться его приказа никто не решился.
– А! – широко улыбнулся Василий Дмитриевич, выходя на крыльцо с бояричами и увидев в саду девушек, сбившихся в нестройную кучу. – Ну, спустимся к ним. Попросим песенку спеть да пляску сплясать. Авось не откажут, коли я попрошу. А ты, Михайла, – хлопнул он по плечу Сыту, суетливо подбежавшего к нему при появлении на крыльце, – похлопочи, чтоб хмельное зелье не убывало. И стол и скамьи чтоб были в саду! Чтоб могли мы на красавиц взирать и пиво-брагу пить… то бишь вино заморское! Пиво-брагу пить завсегда успеем, есть этого добра на Руси, а вино заморское нечасто приходится видеть. А у Евстафия Сыты вин заморских не перепить!..
– Верно изволил молвить, княже, – ухмыльнулся Сыта. – Батюшка мой целыми обозами вина заморские из Новгорода привозил… Похлопочу уж я, государь, не сумлевайся.
Сыта остался в доме отдавать приказания слугам, чтобы в сад были вынесены стол и скамьи и до десятка объемистых посудин с немецким вином, до которого был такой охотник Василий Дмитриевич.
Солнце уже склонилось к западу и бросало свои прощальные лучи на землю, обливая золотом верхушки деревьев и крыши боярского дома и крестьянских изб, составлявших село Сытово. В воздухе разливалась прохлада; дневной зной спал, и легонький ветерок реял по саду, освежая разгоревшееся лицо великого князя. В голове последнего и мысли не было о том, что завтра праздник Христов, а следовательно, не бражничать, а молиться надо, как это предписывала церковь. Встреча с Федором-торжичанином тоже была забыта. Хмель чем дальше, тем больше и больше разбирал Василия Дмитриевича. Сыта шепнул ближайшей девушке, по-видимому всегдашней запевале в хороводных играх: «Затягивай, Дуня! Выручай! А не то разгневается княже. А грех я на себя принимаю», – и Дуня затянула, и старинная славянская песня звонко разнеслась в воздухе, заставив притихнуть и великого князя, и бояричей…
– Стой! Что это? – Встряхнул головою Василий Дмитриевич, услышав протяжный звук где-то поблизости, за садом. Песня мгновенно прекратилась, и в воцарившейся тишине слышно стало, как звонит небольшой колокол на местной церкви, призывая христиан к вечерне.
– Гей! Не в пору звон, что не в пору гость – хуже татарина, – пробормотал великий князь и, подозвав к себе Сыту, сказал ему на ухо: – Слышь, брат: сделай так, чтоб звону сего – ни-ни… не было! Вечерня не большая беда. Вечерня – не обедня. Пускай поп ваш не звонит… Не хочу я. Понял?
– Как не понять, княже, – вкрадчиво ответил боярин и быстро удалился из сада. Звон вскоре прекратился. Сыта снова появился перед великим князем, и снова начались песни, а затем и пляски, хотя девушки пели и плясали неохотно, единственно повинуясь приказу господарскому.
Скоро наступила ночь. Солнце медленно скрылось за горизонтом, и на небе показалась луна, озарив своим бледным светом притихшую землю. На Руси ложились спать рано, с заходом солнца, и, наверное, в эту ночь мало нашлось бы таких городов и селений, в которых бы шумели и пировали так, как в Сытове. Народ свято чтил праздники Христовы и накануне их не позволял себе никаких игр и развлечений. Но в Сытове было не то. Запретивши даже звонить к вечерне ради того, чтобы звук колокола не мешал слушать песни, великий князь несколько раз вскакивал с места, становился в хоровод и откалывал лихие коленца, заставляя плясать и боярских сыновей Сыту, Белемута и Всеволожа.
До полуночи Василий Дмитриевич оставался в своей компании. Но попойка этим не ограничилась. Боярыч Сыта усердно подливал вино в достоканы своего высокого гостя и его собутыльников Всеволожа и Белемута, не забывая и самого себя, и хмельное зелье лилось рекою. Все были сильно пьяны. Однако великому князю снова показалось скучным бражничать в сообщничестве одних бояричей, и он спросил Сыту заплетающимся языком:
– Слышь, брат… того… нету ли у тебя сказочника, что ль? Сказку аль былину послушал бы я… а?
– Есть, государь, – с готовностью отозвался Сыта, не без труда становясь на ноги. – Сказитель изрядный есть. Зело затейливо былины рассказывает. Только, не обессудь, новгородец он… про Новгород былины поет. Может, не по нраву придутся твоей милости?
– Про Новгород… Что ж? Ничего. Урезал я крылья у Новгорода прегордого… Пускай поет и про Новгород. А гусли есть у него?