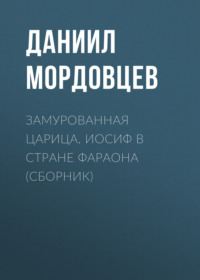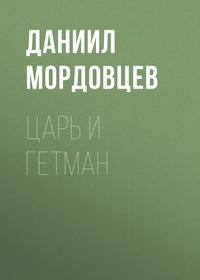полная версия
полная версияГовор камней. Ирод (сборник)
По поводу другой картины на тех же гранитных стенах историк говорит: «Мы видим, что в спокойном счастье своей семьи принимала участие и царица-мать, престарелая Ти, бабушка царевен, которую мы видим на изображении разговаривающею со своим сыном, фараоном, и его женой в зале царского дворца».
В другом месте, на высокой скале, картина изображает царя и царицу, которые молитвенно воздымают руки к солнечному диску, изливающему на них лучи свои. Тут же изображены и старшие царевны, Ми, или Мери-Атен, и Мак-Атен. В то время, вероятно, у Аменхотепа не было еще прочих шести дочерей. Между прочим, фараон обращается к божеству с такою клятвою: «Сладкая любовь наполняет сердце мое к царице, к ее юным детям. Даруй высокую старость царице Ноффи-Ти, да держит она многие годы руку фараона. Даруй высокую старость царской дочери Мери-Атен и царской дочери Мак-Атен и детям их: да держат они руку царицы, матери их, всегда и вечно. В чем, я клянусь, есть истинное сознание того, что говорит мне сердце мое. Нет никогда лжи в том, что я говорю».
Время между тем шло, как оно идет и в наши дни. Юные царевны, которых было уже восемь, подрастали – прелестные «цветки лотоса» распускались быстро, дружно, как это возможно только под пламенным солнцем Африки. В то время, когда младшей из них, Анхнес-Атен, исполнилось одиннадцать лет, старшей, Ми-Атен, которая держала сноп и серп при посрамлении Аписа, стукнуло уже восемнадцать. По мере подрастания девочек в них росли инстинкты отрицания, унаследованные от бабушки Ти через посредство крови отца, фараона-нигилиста. В силу семейной традиции они все скептически относились к поклонению Апису. Как смешон был, по рассказам отца и Ми-Атен, рогатый бог с завязанными глазами, подгоняемый бичом!.. Как жалок был тогда обманщик и плут – верховный жрец Фив!.. Девочки при виде коровы, смеясь, спрашивали друг друга: не это ли мамаша или сестрица фиванского бога?.. А когда им приходилось есть говядину, то озорницы опять издевались над верованиями египтян.
– Мне досталось ребро великого Гапи, – подсмеивалась Ми-Атен, – какое вкусное!
– А я люблю божеский хвост, – говорила лукавая Анхнес-Атен, – он так хрустит на зубах.
– Мы богоедки, – весело заливалась Нофрура.
С таким же отрицанием и даже отвращением царевны-нигилистки относились к поклонению крокодилам. Особенно негодовали девочки, когда бабушка Ти рассказала им предание о том, как дочь фараона Себекхотепа III, из XIII династии фараонов, прелестная царевна Анук-тата, вследствие несчастной любви к одному царедворцу, бросилась в пасть бога-крокодила и погибла в полном расцвете красоты и молодости. Это та Анук-тата, судьба которой изображена мною в четвертом «Говоре камней», в рассказе «Невеста крокодила».
Равным образом юные царевны поднимали на смех «священных жуков-скарабеев».
– Вот ползет бог и катит шарик из навоза… Бог, бог!.. Куда ты ползешь? – стучала ножкой шалунья Анхнес-Атен, мешая жуку катить свой навозный шарик.
От бабушки девочки узнали, что около Фив и Мемфиса имеются отдельные гробницы, в которых покоятся мумии «священных кошек». Их смешила богиня любви, великая Гатор – с головою коровы!.. А бог Анубис – с головою шакала… Все эти «священные» кобчики, ибисы, пчелы – разве же это боги?
Только цветок лотоса, уважаемый египтянами, почитали и юные нигилистки, но только за его красоту, за олицетворение чистоты, изящества и постоянно украшали свои черноволосые головки этим милым цветком.
Но и для нигилисток настал роковой час: они полюбили… Но что удивительнее всего – «солнечный диск», новый бог, бог отца их и бабушки, влил пламя любви в сердца старшей и самой младшей царевен, не заронив пока лучей своих в сердца остальных сестер… Одиннадцатилетняя Анхнес-Атен страстно полюбила «благородного господина», как называют его камни… Одиннадцатилетняя девочка – и вдруг! Да, такова сила африканского солнца, особенно же среди знойных скал Тель-эль-Амарна.
Случилось это таким образом. Царевны часто навещали старую кормилицу своего отца, которая когда-то была наперсницей их бабушки, царицы Ти, и в честь ее также носила имя Ти. В сохранившихся на камнях начертаниях она называлась то «высокая кормилица», то «мать, вскормившая божественного», то «одевшая царя» – высокий титул! Она была замужем за «святым отцом последней степени», то есть жрецом низшего ранга «солнечного диска», но который облечен был в высшие должности при дворе фараона, сделан был «носителем опахала по правую сторону царя и начальником конских заводов фараона». Имя его было святой отец Аи. По этому поводу историк говорит на основании показания камней: «По всей вероятности, кормилица царя пользовалась особым расположением Хун-Атена. Богатство ее дома росло необычайно, до такой степени, как говорит наивно документ (у Лепсуса – Denkmaler), что жители города перешептывались об этом часто на ухо. Это, – прибавляет историк, – весьма характерная и притом общечеловеческая черта их жизни и нравов египтян, склонных, как все толпы, к сплетням и пересудам».
Так вот к этой-то кормилице часто бегали юные царевны. Их привлекало к ней, с одной стороны, то, что она много рассказывала им о старине, о детских годах их отца, о каких-то далеких городах, которые провалились, причем на их месте показалось море с «мертвою водой», и тому подобное, а с другой стороны, то, что царевны страстно любили лошадей и ристалища на военных колесницах, которыми, как и царскими конскими заводами, заведовал муж кормилицы, святой отец Аи. Царевны почти каждый день упражнялись в ристании на колесницах, в метании боевых копий и других воинских упражнениях, свойственных только мужчинам. И здесь, как видит читатель, проявились их нигилистические наклонности.
В этих неженственных упражнениях руководили царевнами помощники святого отца – Саанехт и Анхнес-Амон. Тут же и началось сближение царевен с черномазыми кавалерами. Кавалеры так же не верили или притворялись, как все придворные, что не верят ни в божественность Аписа, ни в кошек, ни в священных жуков и крокодилов, ни в то особенно, что богиня любви украшена коровьей головой. Напротив, они уверяли, что богиня любви имеет такое же светлое лицо, как само солнце….
– Такое же светлое, божественное личико, как у божественной Анхнес-Атен, – шептал черномазый кавалер – «благородный господин» Анхнес-Амон, ворочая кокетливо своими африканскими буркалами с огромными белками, несясь на своей боевой колеснице рядом с колесницею хорошенькой одиннадцатилетней дурочки.
Смуглые щечки дурочки при этом нубийском комплименте, конечно, вспыхнули от радости, но, по женскому кодексу, который обязателен был и для египтянок за пять-шесть тысяч лет до нас, притворилась, что ничего не понимает.
Когда же другой черномазый кавалер, страшно ворочая своими нубийскими буркалами, стал шептать еще более африканские любезности восемнадцатилетней нигилистке Ми-Атен, то эта красавица сначала огрела любезника хлыстом, до крови, по голому плечу (черномазый кавалер, подобно всем спортсменам, вместо всякого одеяния имел на своих железных бедрах только легкий фартучек из финикийского биссуса), а потом, по окончании ристалища, тайно от всех, горячо прильнула своими лукавыми губками к раненому плечу «милого, милого»…
– Ты что сегодня такая радостная, моя девочка? – спросила царица Нофер-Ти свою младшую дочку, Анхнес-Атен, видя ее оживленное личико.
– Я сегодня так хорошо управляла колесницей, – ответила плутовка, – меня похвалил Анхнес-Амон (а сама только и думала о его буркалах).
– Помолись же, поблагодари за все бога: видишь, бог заходит, – сказала царица, указывая на склонившийся к горизонту, за Нилом, солнечный диск.
Девочка опустилась на колени и молитвенно сложила ручки.
– Повторяй за мной слова молитвы, – сказала мать.
– Солнечный диск! О ты, живой бог! – повторяла за матерью юная царевна. – Нет другого, кроме тебя! Лучами своими ты делаешь здравыми глаза, творец всех существ. Восходишь ли ты в восточном световом круге неба, чтобы изливать жизнь всему, что ты сотворил, – людям, четвероногим, птицам и всем родам червей, на земле, где они живут; они смотрят на тебя и, когда ты заходишь, – засыпают. Дай сыну твоему, любящему тебя, жизнь в правде, господину земли, Хун-Атену, да живет он в единении с тобою в вечности. Даруй дщери его, царевне Анхнес-Атен, живот в любви к отцу, да живет она всегда и вечно при нем… А как же я замуж? – перебила молитву наивным вопросом Анхнес-Атен.
– Тебе рано еще, – засмеялась мать, – пускай выйдут прежде в жены старшие сестры.
– Это долго, – надула губки дурочка.
Гораздо серьезнее была молитва старшей сестры к заходившему в тот вечер солнцу:
– Прекрасно захождение твое, о ты, солнечный диск жизни, владыка владык, царь миров! Когда ты соединяешься с небом в захождении твоем, то радуются смертные пред лицом твоим и воздают почести тому, кто сотворил их, и молятся пред тем, кто сделал их. Вся земля египетская и все народы повторяют имя твое при восхождении твоем, чтобы славословить восхождение твое. О ты, бог, который поистине есть бог живой, – ты находишься перед обоими глазами нашими. Ты еси тот, который создает то, чего не было никогда, который соделывает то, чего не было никогда, который соделывает все, что содержится в целом. И мы появились вследствие речения уст твоих[9].
Так молилась Ми-Атен; в душе же ее вставал образ того, кого она так безжалостно обидела бичом по голому мужественному плечу.
Впрочем, молитвы царевен были услышаны божеством: скоро Ми-Атен сделалась женою Саанехта, а маленькая Анхнес-Атен отдана была курчавому богатырю Анхнес-Амону.
Ристалища на колесницах также послужили в пользу мужественным царевнам. Знаменитый египтолог Мариетт-бей на камнях Тель-эль-Амарна, среди развалин бывшей столицы фараона Ху-Атен, нашел изображение битвы египтян с соединенными силами азиатов, вероятно, финикиян и сирийцев. На этих камнях есть «изображение царя Хун-Атена на колеснице, сопровождаемого семью дочерями, также на колесницах, которые (то есть дочери фараона), как и отец, тоже сражаются и топчут азиатов».
В битве – только семь царевен: вероятно, младшую не взяли в поход, и воображаю, как она ревела, несмотря на то что была уже замужем.
Зато она должна была утешиться трофеями победы отца и сестер. В египетской коллекции города Лейдена имеется каменная плита с изображением следующей сцены: будущий фараон Хоремхиб, тогда еще царедворец Хун-Атена, как почетнейшее лицо при дворе, представляет царю пленных разных стран, которых ведут царские слуги; в числе этих пленных являются глупые лица негров, лукавые лица сирийцев и узкие лица мармаридов, жены которых ведут в подарок лошадей в поводу.
Таковы были нигилистки времен фараонов.
XI
Жрец-гипнотизер
В Булакском музее в Каире сохраняется великолепный саркофаг царицы Аахотеп, супруги фараона Камеса, последнего фараона XVII династии. Саркофаг этот открыт знаменитым египтологом Мариеттом-беем в погребальных склепах древних Фив.
На крышке этого саркофага высечена фигура мумии, вся позолоченная. На лбу этой мумии изображен символический царский змей – уреус. Глазные веки мумии обтянуты червонным золотом, белки открытых глаз сделаны из горного кристалла, а зрачки – из черного стеклянного сплава. На груди и плечах мумии лежит изображение грудного убора, присвоенного царицам. Остальные части тела мумии прикрыты парою огромных крыльев. У ног саркофага – фигуры Изиды и другой богини, редко упоминаемой, – Нефтис. На саркофаге имеется иероглифическая надпись: «царица Аахотеп», то есть «служительница луны».
Когда крышка саркофага была поднята, то там открылась необыкновенно богато украшенная мумия самой царицы, пребывавшая нетленною в течение тридцати шести веков. Сохранились нетленными ткани виссона, которыми обвито было тело царицы. Когда же развернули складки этих тканей, то там оказались драгоценные, великой исторической важности вещи, исполненные необыкновенно художественно, както: мечи, золотой топор, цепь с тремя большими золотыми пчелами и нагрудное украшение из золота. На лицевой стороне этого нагрудника изображен фараон Аамес, ее сын, первый фараон XVIII династии. Он изображен плывущим на священной лодке, а два божества возливают на него воду очищения. Краски этого изображения, по замечанию Мариетта-бея, не обыкновенная эмаль, а пластинки драгоценных камней, заключенные в золотые ободки. Камни эти – бирюза, лазоревый камень, сердолик и другие. Там же, при мумии, найдено зеркало (как же женщине, даже мумии, в гробу быть без зеркала!). Зеркало это, с украшениями в виде пальм, составляет еще неразрешенную загадку, так как диск зеркала сделан из какого-то сплава, имеющего относительный вес золота – но это не золото. Не разгадал ли бы этой загадки покойный Кузьма Прутков на своем пробирном камне?
Наконец, когда бережно развернули складки тканей, которыми обмотана была сама мумия, то на шее ее оказалась золотая цепь со священным жуком, головной обруч в виде царского змея – уреуса, браслеты и другие украшения. В гробу же лежали две маленькие лодки из золота и серебра – это лодки Харона, который перевозил души умерших через «озеро смерти» в страну загробного мира – в Аменти. Надо заметить, что греки заимствовали Харона и его лодку, как и всю свою позднейшую мифологию, у египтян: греческий Орфей долго жил и учился у египетских жрецов, и из Египта же он вынес не миф, а истинный рассказ о своем нисхождении в ад через Ахерон и Флегетон, то есть через египетское «озеро», или «реку смерти» – в страну Аменти при помощи лодки Харона.
Но не в этом главная суть рассказа. Я потому дал здесь подробное описание мумии царицы Аахотеп, что это – одна из не ограбленных хищниками мумий со всеми находившимися при ней в гробу драгоценными предметами.
Суть же рассказа впереди.
Фараон Камес женился на царевне Аахотеп, когда она находилась еще в очень нежном возрасте – была почти ребенок. Фараоны на это не смотрели, тем более что у юных египтянок зрелость, конечно относительная, наступала очень рано под горячими ласками бога Ра, то есть жгучего африканского солнца. Но, к великому огорчению фараона, юная супруга его долго не давала ему наследника престола: проходит год, два – Аахотеп все остается девочкой. Фараон скорбит, дуется на девочку. Девочка, как всякая дурочка, конечно, в слезы… К кому прибегнуть за помощью? Понятно, к богам, твердят жрецы: к верховному богу Горусу, к богу оплодотворения. Горус как рукой снимает бесплодие.
Стала девочка ходить в храм молиться Горусу.
Древность, как известно, высоко ставила «египетскую мудрость». И неудивительно: египетские ученые, преимущественно жрецы, постигли много тайн природы. Они в течение тысячелетий успели вырвать у ее скупости немало «такого, о чем не снилось и нашим мудрецам». Им хорошо была известна сила гипноза и соединенных с нею явлений. Жрецы были и спириты, может быть, поопытнее Алан Кардека и Николая Петровича Вагнера, хотя и не знали фотографии…
Итак, Аахотеп стала ходить к Горусу. Она усердно молилась ему, много плакала… И милостивый бог сжалился над нею: он послал к юной царице своего служителя, верховного жреца Менту. Он вышел из святилища храма, держа в руке маленькое серебряное изображение Горуса.
– Великий бог внял твоим молениям, дочь моя, царица Аахотеп, – сказал он. – Я вестник его воли. Опустись на это седалище.
Жрец подвел ее к невысокому сиденью из красного дерева.
– Усади свое тело поудобнее и прислони спину твою к «доске покоя», – продолжал он, сажая дурочку.
Дурочка уселась. Она чувствовала благоговейный трепет – трепет боязливого и радостного ожидания. Она вся была во власти опытного гипнотизера.
– Теперь смотри пристально на изображение бога, на самую блестящую часть его, – продолжал жрец. – На какой части изображения более всего отражается свет бога Ра? – спросил он.
– На лбу бога, – тихо отвечала юная царица.
– Смотри же именно на это место и думай, молись сосредоточенно о том, чего ты просишь у божества.
Она повиновалась. Жрец стоял против нее, держа перед ее глазами серебряного Горуса. Кругом полная тишина… Проходит минута, другая, третья… Жрец сосредоточивает на гипнотизируемой всю силу своего внушения… Еще проходят минуты – пять, шесть… десять… Веки царицы тяжелеют… Лицо, скорее юное личико, мало-помалу теряет осмысленное выражение… Она засыпает…
– Ты где? – тихо спрашивает жрец.
Молчание… Он громко повторяет свой вопрос. Опять молчание…
– Ты в области небесных видений, – говорит жрец внушительно, строго. – Отвечай: да?
– Да, – слышится тихий шепот.
– Повтори явственно: я, царица Аахотеп, в области небесных видений, – настаивает жрец.
– Я… царица… в области… небесных видений…
Лукавая, торжествующая улыбка скользнула по лицу жреца.
– О, сила мудрости! – радостно прошептал он.
Потом он наклонился к усыпленной девочке, бережно обвил правою рукою ее тоненькую, гибкую талию, осторожно приподнял с сиденья и, тихо прижимая к себе, медленно повел ее в святилище храма, за широкую завесу из финикийского виссона. Хорошенькая головка юной египтянки беспомощно склонилась к плечу жреца… Скоро завеса скрыла их… Снова показался верховный жрец, по-прежнему бережно ведя юную царицу. Глаза ее были закрыты – она продолжала спать. Менту снова бережно усадил ее на седалище, прислонив черную головку к «доске покоя». Потом он расправил складки ее одежды и отошел, любуясь миловидным личиком с детским выражением.
– Дитя мое, царица Аахотеп, снизойди из области небесных видений в область видений земных, – проговорил он внушительно. – Проснись!
Аахотеп открыла глаза. Сначала она, по-видимому, ничего не сознавала – где она, что с ней… Но потом взор ее прояснился, и она глубоко-глубоко вздохнула.
– Это ты, святой отец? – тихо проговорила она. – Что со мной? Где я была?
– В области небесных видений, дочь моя, – отвечал жрец с лаской в голосе.
– Да, да, святой отец, – радостно проговорила дурочка.
– Да, да, дитя мое… Это осенило тебя божество… А теперь, дочь моя, возвращайся во дворец твой, к супругу-фараону – да живет он вечно!.. Обопрись на мою руку – я провожу тебя из храма.
Аахотеп покорно повиновалась. Жрец провел ее до внутреннего двора храма, где у пилонов ее ожидали рабы и рабыни с богатыми придворными носилками и опахалами.
Когда носилки с юной царицей двинулись, жрец воротился в храм. На упитанном лице его играла чуть заметная лукавая улыбка…
Прошло девять месяцев. Фараону Камесу боги послали великую радость: у него родился сын, наследник престола Верхнего и Нижнего Египта. Царские гонцы разнесли радостную весть по всей стране – от стовратных Фив до «Великих зеленых вод» на север и далеко-далеко за «тропик Рака» – к югу.
На восьмой день после появления на свет фараонова первенца из дворца выступила торжественная процессия. Это несли высоконоворожденного в храм Амона для обрезания. Процессия двигалась около двух роскошных балдахинов, следовавших рядом. Под одним балдахином восседал на золотом троне сам фараон Камес, над которым эрисы махали опахалами из страусовых перьев, навевая прохладу на лицо счастливого отца и повелителя. Под другим, меньшим балдахином стояла золотая колыбель, а в ней покоился высоконоворожденный младенец, над которым «высокая кормилица» тоже помахивала опахалом, а другими двенадцатью опахалами помахивали «высокие госпожи женской палаты фараона», то есть статс-дамы царицы Аахотеп, которая на церемонии обрезания не присутствовала.
Тысячи народа следовали за процессией с горячим любопытством и возбуждением, но сдержанно и безмолвно, так как везде виднелись в воздухе внушительные бичи мацаев – полицейских, готовые поразить всякого нарушителя тишины.
Едва процессия вступила за пилоны храма, как ее встретила процессия жрецов с Аписом во главе.
Носилки тотчас же были поставлены на землю – носилки новорожденного впереди. Верховный жрец Менту, уже знакомый нам жрец-гипнотизер, первый подошел к колыбели младенца. Радостная улыбка осветила его красивые, упитанные черты. В руке он держал священный нож обрезания. За жрецом потянулась и морда рогатого бога. Вымуштрованный голодом и частыми репетициями, Апис знал очень хорошо, что в колыбели высоконоворожденного лежит сноп свежей, сочной пшеницы, – а ему только этого и надо. Бык, обнюхав младенца, приподнял своей мордой покров, прикрывавший пшеницу, и тотчас же принялся жадно жевать ее…
– Великий бог благословил царственное семя, – послышался благоговейный шепот «высоких госпож женской палаты».
Но бык, жадно жуя, неловко задел мордой ребенка. Тот проснулся и заревел благим матом…
– Боги этим криком возвещают свою волю, – торжественно сказал верховный жрец. – Голос великого младенца, когда он возмужает и воссядет на престол фараонов, с трепетом услышит вся вселенная.
Будущему фараону дано было имя Аамеса, что значит «чадо луны».
XII
Египетский Шарко
Это было при фараоне Рамзесе XII, предпоследнем фараоне XX династии.
К востоку от Египта, в далекой Азии, существовало царство Бахатана. Известные египтологи, виконт де Руже и Бругш-бей, полагали, что это была Экбатана, столица Мидии. Но это – только ученая гипотеза. Как бы то ни было, но мой рассказ заключается в следующем.
У царя Бахатаны заболела любимая дочь, молоденькая царевна, по имени Бинт-Реш. Болезнь ее была, по-видимому, нервная. Значит, не один XIX век страдает нервами – и при Рамзесах такое бывало. Но пусть лучше сами камни говорят об этом. Их рассказ такой наивно трогательный и записан он на каменной стеле по повелению Рамзеса XII более чем три тысячи лет до наших дней.
«Когда фараон находился в земле рек Нахараин (Месопотамия), – говорит этот камень, – тогда пришли цари всех народов в смирении и дружбе к особе фараона. Из отдаленнейших концов земель их приносили они в дань золото, серебро, голубые и зеленые камни, и всякого рода благовонные деревья святой земли находились на плечах их, и всякий торопился сделать это ранее своего соседа.
Тогда приказал царь земли Бахатаны принести дары свои и во главе их поставил свою старшую дочь, чтобы почтить фараона и испросить его дружбу.
И женщина была красотою своею милее фараону, чем все другие вещи. Тогда вписано было ее царское имя, как жены царя – Нофрура.
Когда фараон прибыл в Египет, то ей учинено было все то, что обычно делают для царицы. И случилось то в год 15-й, в месяц паини, в 22-й день.
Тогда находился фараон в Фивах крепких, в царе городов, чтобы благодарить отца своего, Амона-Ра, господина Фив, в прекрасный его праздник Апи юга, в седалище его наслаждения от начала. И пришли тогда доложить фараону:
– Пришел посол царя Бахатаны с подарками царице.
И привели его пред фараона вместе с дарами. Он говорил в честь фараона:
– Будь приветствован, солнце народов! Пусть мы живем при тебе!
Тогда говорил он, упав ниц пред фараоном, и повторил речь фараону:
– Я пришел к тебе, великому господину, ради девицы Бинт-Реш, младшей сестры царицы Нофрура. Страдание вошло в ее тело. Да пошлет твое величество человека, знающего вещи, чтобы он посмотрел ее.
Тогда сказал фараон:
– Да будут приведены ко мне ученые из помещения священной науки (египетская академия, где заседали «бессмертные» мужи!) и знающие внутренние тайны.
И привели их немедленно к нему. Говорит фараон после некоторого времени:
– Вы призваны для того, чтобы выслушать эти слова. Итак, приведите ко мне мужа из среды вас, мудрого разумом и пальцами искусного в писании.
Когда пришел царский писец Тутемхиб пред фараона, приказал ему фараон, чтобы он отправился с прибывшим послом в Бахатану.
Когда знающий достиг города земли Бахатаны, в котором пребывала Бинт-Реш в положении, в котором находятся одержимые духом, тогда нашел он себя бессильным бороться с ним (то есть с духом).
Увы! «Мудрый разумом и пальцами искусный в писании» осрамился!
«И снова, – продолжают говорить камни, – послал царь к фараону, так говоря:
– Великий господин и властитель! Да повелит твое величество, да послан будет бог Хонзу действующий, фиванский, к младшей сестре царицы».
Это и есть египетский Шарко – «бог Хонзу действующий». Вероятно, когда тот ученый муж, «мудрый разумом и пальцами искусный в писании», увидел, что не в силах тягаться с духом, он и сказал царю Бахатаны: «А вы попросите прислать к больной царевне Хонзу действующего… Это такой у нас дока, что против него ни один дух не устоит…» Кто этот «Хонзу действующий» – мы сейчас узнаем… Ах, седая древность! Как много в ней неразгаданного!..
«И посол оставался при фараоне до года 26-го, – продолжают камни. – В месяце пахонс того же года, во время праздника Амона, пребывал фараон в Фивах, и стоял фараон пред богом Хонзу фиванским, добрым и дружелюбным (этого Хонзу – «доброго и дружелюбного» – надо отличать от «Хонзу действующего» – в этом вся и штука…), говоря ему так: