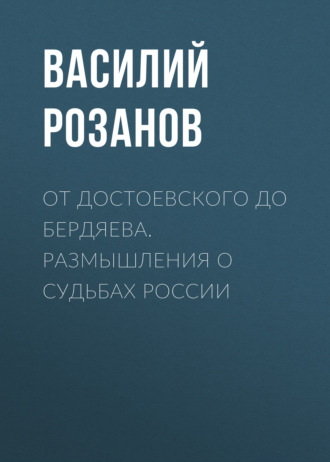 полная версия
полная версияОт Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
VI
Всякий раз, когда источник какого-нибудь действия лежит позади этого действия (в пространстве или времени) – мы усвояем ему имя причины: таков толчок по отношению к движению; напротив, когда источник действия лежит впереди или после его – мы называем его целью: такова улучшенная форма чего-либо по отношению к процессу улучшения, через который оно проходит. Процессы, которые исходят от своих причин, всегда суть процессы только количественные; и с одной же количественной стороны могут быть познаваемы предметы, которые являются результатами их (масса, объем, фигура, положение и т. п.). Напротив, процессы, которые выходят к своим целям, суть также и качественные: качество есть новая сторона здесь, которая зависит от большего или меньшего соответствия целесообразно устроенных предметов или целесообразно совершающихся явлений с конечною целью, к которой они восходят, ради которой они устроены или совершаются.
Таким образом – не причина, скрытая в глуби времен, есть движущее начало всего органического процесса; но – цель, лежащая в будущем и нам еще неизвестная, которая устрояет этот мир и переводит его от формы к форме с помощью причин, механических в отдельности, но в целом планомерно расположенных. Подобно тому, как и воля человека, целесообразно устрояющая государство или возводящая здание, опирается на законы природы или души человеческой и действует с помощью их механически.
VII
Жизненное напряжение, о котором мы сказали ранее, что оно есть источник красоты в органической природе, раскрывается, таким образом, перед нами как сила скрытой целесообразности, не дающей органическим формам остановиться, пока цель всего органического процесса еще не достигнута; и она же мешает этим формам слиться в ряде тожественных, не отличимых друг от друга существ, пока ни в одной органической особи цель не достигнута, – и это есть истинная причина ее стремления рождать. Если бы дети совершенно походили на своих родителей – самого акта рождения не было бы в органической природе; возможное различие того, что будет порождено, есть настоящая причина всякого зарождения, какое когда-либо было. Потому что без этого различия не было бы приближения органических форм к своему источнику, а оно, это приближение, и есть источник жизненной энергии, которая сообщается особи в момент ее зачатия и даст ей силу повторить его. Особь есть только мимолетное звено в процессе вечного достигания; и она живет и дает другим существам жизнь лишь настолько, насколько достигает. Индивидуальные различия, которые мы находим во всех особях данного вида, есть результат их усилий переступить через границы своего вида – далее; и, насколько они уже бессильны сделать это сами, потому что связаны родительскою формой, которую несколько разрушили, и не в силах разрушить более – они стремятся достигнуть этого, по крайней мере, в потомстве. В этих усилиях, в этих вечных всплесках жизненной волны к своему неподвижному источнику, не все достигают своей цели: многие уклоняются в сторону или под влиянием внешних физических деятелей, или потому, что самое усилие было судорожно и неправильно; большинство не переходит обыкновенного уровня поднятия и, обессиленное – падает назад; но некоторые поднимаются высоко – и появляется то, что принято называть «крупными самопроизвольными изменениями организмов»: первая ступень в образовании нового вида. Явление смерти, как индивидуальной, так и видовой, равным образом явление уродливости – эти не общие и исключительные особенности органической природы – находят здесь свое объяснение. Смерть есть угасание жизненной энергии, происходящее от того, что она не доходит в особь или вид из вечного источника, к которому они стремились некогда приблизиться – и тогда жили, в соотношение с которым теперь почему-либо в них прервано. Бессилие стать к этому источнику ближе есть причина смерти, как самое приближение – причина жизни. В общем же причиною того и другого служит бессилие или, наоборот, способность производить из себя различное. Всякий раз, когда в акте рождения уже передана особью своему потомству способность к дальнейшему достижению цели, и она ничего более не может сделать, как только повторить себя – она выпадает из органического процесса, как его ненужное звено, и умирает. Здесь лежит объяснение и явления старости – этого бледного и косного существования, где жизнь уже не поднимается более, где остаток ее, слишком недостаточный, чтобы передаться, медленно растрачивается на поддержание в неподвижном состоянии прежней организации; и когда растрачивается на это все он – организм разрушается. Отсюда же объясняется и то, что этого явления старости, иногда продолжительного в высших организованных существах, полных жизненной энергии, нет в низших, со слабою энергией, которой едва хватает на то, чтобы передаться потомству в несколько увеличенном виде: поэтому многие из них умирают, как только родят. Так происходить индивидуальная смерть. Вид же или род умирает потому и тогда, когда он или породил уже высшую, чем сам, органическую форму, или когда он уклонился с пути этого порождения лучшего. В первом случае он связан с ныне живущими видами и родами непрерывающимся рядом промежуточных форм; во втором случае он является вымершим без потомства, как бы отделившеюся от органического мира ветвью, которая угасла, ничего не производя. И там и здесь органическая форма вымерла потому, что утратила силу рождения, сделавшись способною только повторять себя, по не производить что-либо новое, ближайшее к вечнодостигаемому источнику всей органической жизни.
Отсюда соотносительность жизни и смерти в органической природе: – невозможность породить первую, не приняв в себя второй. Всякое созидание иного есть разрушение себя, и это в каждой частице организма, во всем в нем как особи, и в целом органическом мире. Это от того, что невозможно достигнуть чего-либо, не став тотчас же ненужным более настолько и в том именно, насколько и в чем достигнуто.
VIII
Теперь, установив эту общую точку зрения на органическую природу и ее развитие, обратимся к более частному рассмотрению одного явления в ней – красоты. Мы увидим, что оно замечательным образом объясняется из этого взгляда, а он, взамен, получает в этом явлении фактическое подтверждение.
Мы сказали ранее, что красота есть особая форма, в которую преобразуется органическая энергия, что она есть только проявление последней, в котором нет ни произвольности, ни чего-либо преднамеренного или искусственного. И в самом деле, все ее повышения совпадают с повышениями органической энергии, как мы объяснили их выше.
Незначительная на низших ступенях органического развития, красота возрастает по мере того, как это развитие подвигается во времени, и формы из более простых переходят в более сложные, т. е. становятся носителями высшего жизненного напряжения, большого количества органической энергии. Факт все более и более яркого проступания красоты есть столь же общий и постоянный в органическом мире, как и факт усложнения этого последнего в каждой отдельной особи и в целом строении своем (богатство органов в организме, богатство видовых, родовых и прочих форм в органическом мире). При этом замечательно, что красота, возрастая, не только становится более яркою через какой-нибудь один способ выражения, но она ищет и новых способов выразиться, потому что один становится уже недостаточен: к красоте очертания присоединяется красота цвета, в самом цвете появляется очертание; и он становится узором (крылья бабочек, напр.); наконец, появляется звук, сперва внешний, производимый трением одной части тела о другую (насекомые), а потом внутренний – голос; им обладают только животные с очень уже высокою сложностью организации. Эта многоформенность выражений красоты, развивающаяся параллельно с многоформенностью жизненных функций (дыхание, кровообращение, пищеварение), служит, как и она, показателем повышения органической энергии.
Три общие типа, к которым искусно сводит г. Вл. Соловьев все отделы проявления безобразия в органическом мире[28], через это сводятся к одному. Всякий раз, когда в органическом процессе, целесообразно развивающемся, мы встречаем или остановку, или возвращение к прежнему, или раннее и недостаточное осуществление того, что лишь в будущем может быть осуществлено в своих нормальных пределах, мы чувствуем присутствие в нем неправильного, болезненное уклонение его энергии в сторону, – и некоторое темное и неприятное ощущение овладевает нами. Сами являясь носителями органической энергии, и притом на высшей ступени ее осуществления, мы непреодолимо и безошибочно чувствуем все не так направленное в развитии этой энергии, и, повинуясь чему-то безотчетному, отвращаемся при созерцании его. Смотря на природу как на вечно завышающееся, мы радуемся, созерцая, как формы ее бегут вверх, мысленно поднимаемся за ними и любим их тогда, наслаждаемся ими; если же они бессильно опускаются вниз, что-то враждебное против них поднимается в нас, мы оставляем их и ненавидим, не находя в себе сил даже к состраданию. Сострадание отсутствует здесь, быть может, потому, что в отвратительном мы всегда и верно угадываем присутствие чего-то смертного, относимся к нему как к временному в высшей степени; напротив, все прекрасное исполнено залогов жизни, и мы не ошибаемся, когда называем его (по соотношению с достигаемым) вечным.
IX
Возрастая, как и сложность организации во времени, красота в каждой отдельной особи бывает не постоянно выражена с одною и тою же силою и яркостью. Две главные функции находим мы во всяком организме: питание, через которое он поддерживает себя, и размножение, через которое продолжает себя в потомство. К общему органическому процессу имеет отношение только вторая функция; через акт рождения, как мы заметили выше, проходит та скрытая нить, которая связует особь с целым органическим миром, делает ее не изолированным существом, но звеном в длинном ряде все развивающихся форм. Через этот именно акт особь, бессильно стремившаяся подняться над родительскою формой, передает стремление и способность подняться выше ее – своему порождению. Ясно, что в этом именно акте происходит поднятие органической энергии, и с ним же совпадает высшее проявление красоты в природе: в примерах, приведенных выше, повсюду отмечено, что красота форм, цветов и звуков возрастает, ко времени спаривания, продолжается все время, пока оно длится, и тотчас блекнет, когда оно проходить. И Ч. Дарвин, и г. Вл. Соловьев объясняют это тем, что она появляется в то время как средство прельщения; но если мы могли бы еще подумать это об одних выражениях красоты (например, о пении птиц), то ни в каком случае не можем допустить этого относительно других (окрашивание раковин и рыб, вырастание различных придатков, благоухание цветов и пр.). Поэтому правильнее всего и там, где мы могли бы заподозрить преднамеренность, видеть не что-либо произвольно создаваемое в видах достижения временной цели, но также невольное и своеобразное выражение поднявшегося жизненного напряжения. И человек поет, – и это прекрасно, и влечет к нему; но он поет не для того, чтобы привлечь к себе, а потому, что ему хочется петь, что у него пробудилась к этому способность и влечение. Так и прекрасные формы, цвета и звуки в животном мире, суть простые выражения органической энергии: они суть следствия ее поднятия, а не средство для чего-либо. Но что эта внешние выражения скрытой энергии привлекают особей другого пола, это слишком понятно; и в них в то же время происходит поднятие жизненной энергии, и ясно, что она поднимается навстречу энергии другого пола. Акт спаривания есть момент, когда эти энергии сливаются. Как было бы ошибочно думать, что человек и лицом, и вообще физически в среднем возрасте становится прекраснее, чем в старости, только потому, что желает этого, что в это время нужна ему красота, – так ошибочно думать, что и прекрасное в органической природе возрастает, потому только, что оно нужно. Ни произвольности, ни чего-либо искусственного здесь нет.
X
Мужской пол вообще нужно считать главным носителем органической энергии: насколько последняя не только сохраняется, но и нарастает во времени, она содержится именно в нем. Он есть деятельный и зиждущий элемент в органическом мире; и в человеке, в котором, как в высшем звене органического мира, все явления этого мира крупнее и ярче выражены, это можно видеть особенно ясно: мужчина сделал историю, женщина же всегда оставалась только его помощницею. Не только всякий исторически значительный замысел, новая идея или высокое и своеобразное чувство всегда зарождалось в мужчине, и женщина только приникала к этому, любила это и того, кто его создал; но если мы будем сравнивать и внешний, физический облик мужчины и женщины, мы без труда заметим, как разнообразен он у первого и как однообразен у другой. Женщины гораздо сходнее между собою, нежели мужчины; в них гораздо меньше индивидуальности; а уже выше было сказано, что индивидуальные черты суть именно то, в чем сказывается стремление органической энергии, живущей в данном виде, переступить его границы (разрушить родительскую форму). Таким образом, не только в духовной сфере нарастание некогда исходило из мужчины, но и в физических чертах это нарастание во времени также является только в нем или в нем главным образом. Отсюда – автономность в мужчине, некоторая отделенность его, которому расти только вперед; и связность женщины, ее слитность с мужчиною, и любовь – как высшая красота ее к истории и совершенное удовлетворение. Все особенности мужского характера, его духовной личности и его роли в истории, объясняются из одного: из того, что он есть носитель целей своего рода; и все особенности женщины, над которыми столько задумывались: ее незначащая роль в истории и особенные светлые и высокие черты ее души – все это вытекает из того, что она не носит в себе никаких автономно ей принадлежащих целей. Ее вечная и единственная цель – стать усвоенною, послужить, сделаться орудием обнаружения того, о чем она имеет только смутное представление и более ясного не ищет; – потому что единственное понятие, ей необходимое во всей ясности, есть то, что она служит, способствует чему-то.
По этой же причине – если мы вновь возвратимся к органическому миру – особи мужского пола являются в нем деятельными в момент спаривания, а особи женского пола – пассивными: именно первые ищут продолжить свой род, в них именно органическая энергия, вечно стремящаяся разрушить родительскую форму в детской, ищет быть переданною потомству. И они же, как это замечают все натуралисты, в момент спаривания приобретают особенно прекрасные формы; самки же остаются таковыми, какими были, или изменяются очень мало. Красота очертаний, цветов и звуков, о которой мы утверждаем, что она есть преображенная органическая энергия, нарастает у того именно пола, который есть носитель нарастающего в этой энергии.
Таким образом, в мире животном и растительном красота форм, цветов, звуков, нарастая:
• по мере возрастания сложности организации,
• к моменту спаривания,
• у пола, деятельно спаривающегося, – одинаково является там, где пульс биения органической жизни повышается, где tonus пульсации особенно напряжен. Мы объясняем – где эта пульсация восходит, где жизненная волна всплескивается к некоторому высшему своему завершению, подобно океаническим водам, которые немного, но постоянно поднимаются навстречу тянущему их к себе небесному светилу. Только это тяготение органического мира построено не по законам пространства, но по законам времени.
XI
Взгляд на источник красоты в органическом мире, изложенный нами, совпадает, таким образом, со всеми фактами се частных проявлений: тогда как Дарвиново объяснение во всех же частностях, с этими фактами расходится. Прекрасное в живой природе есть отблеск радости об этой носимой в ней жизни, как отвратительное в ней есть содрогание от приближающейся смерти. Самую же жизнь мы рассматриваем как достигание органическими формами, этою одушевленною материей, вечного источника своего, который, оставаясь в бесконечной дали, некогда затеплил искру этого особенного существования на холодной земле, и чем далее проходило время – она все разгоралась на ней, вбирая в себя безжизненные элементы, которые лежали вокруг, и преображая их в формы все более живые и все более прекрасные по мере того, как великий источник жизни становился ближе. Вот почему так напрасно ищут начета органической жизни: оно не в прошедшем, а в будущем, оно наступит, и его нужно ожидать, а там, где его ищут обыкновенно – лежит только его конец. Он теряется в безжизненной неорганической природе; и где, в каком месте, в какое время она впервые и незаметно шевельнулась под действием безгранично далекого луча, на нее павшего, шевельнулась как никогда раньше и по совершенно особенным законам, связь с которыми никогда уже не утратила потом – этого напрасно искать.
Проявление красоты в органической природе отмечено одною особенностью, которая удобно может послужить переходом к рассмотрению прекрасного в самом человеке. Именно – замечено, что раз она выражена в чем-нибудь одном, она уже не выражается в другом: так, птицы с красивым оперением не обладают даром пения, а имеющие этот дар – дурно окрашены: явление, совершенно необъяснимое, с точки зрения Дарвина, и понятное при том взгляде на красоту, какой мы установили выше. И в самом деле, если всякая красота является потому, что она нужна, полезна для своего обладателя, то почему одному виду красоты не прибавляться к другому, почему с улучшением оперения не возрастать и звонкости голоса? Если переживать своих соперников должны особи, наилучше приспособленные к привлечению самок, то их особенно должны переживать те, у которых к одному виду красоты начинает присоединяться и другой. Таким образом, многоформенность прекрасного в одном индивидууме должна бы встречаться особенно часто. И, между тем, мы ее не находим. Напротив, – мы переходим к своему объяснению – раз органическая энергия нашла себе выражение в чем-либо, если она вылилась в одну определенную форму красоты, – ее не останется уже для создания еще и другой формы, потому что на каждой ступени органического мира, во всяком отдельном виде животного или растения, эта энергия находится в постоянном, определенном количестве; и она может возрасти только на следующей его ступени, в дальнейшей фазе его развития.
Мы повсюду говорили о красоте организмов, тогда как следовало бы говорить только об их красивости. Есть что-то бездушное, как бы неживое в этой красоте – по крайней мере с точки зрения человека, который так высоко стоит над органическим миром, так безмерно богат жизнью сравнительно с ним. Фигура, очертания, оттенок краски, переливы голоса – все это так бедно, так грубо механично в сравнении с тем неуловимым, что, созерцая свой собственный мир, человек привык соединять с понятием «красоты». Только по снисхождению он может прилагать это высокое слово к окружающей его природе, которая стоит ниже его; с правом же может говорить так о себе одном только. Во всем мироздании он один истинно прекрасен – и в образе лица своего, и особенно в образах того, что создает.
Есть одно основание, и оно именно заключается в способах проявления красоты, которое побуждает нас думать, что органический процесс уже получил свое завершение в человеке; и что скрытая целесообразность, двигавшая развитие столько тысячелетий, направлялась к созданию его внешних черт и его духа. И в том смысле, в каком можно достигнутую цель называть причиною своих средств, хотя они существуют и ранее ее, – можно и человека считать истинною причиной всей органической природы; он создал ее, и создал именно безусловностью некоторой красоты, в нем скрытой, но пока лишь мерцающей сквозь темную оболочку его тела и всего грубого, что с нею связано.
Уже раньше нами замечено было, что в исследовании этой трудной и загадочной области доказательства в обычном смысле не приложимы, и все, чего мы можем достигнуть здесь – это хотя слабого рассеяния сумрака, который окутывает эту область, с помощью разных аналогий и сближений. Строго воздерживаясь придавать им настоящую доказательную силу, мы укажем здесь на некоторые из этих аналогий, подтверждающие мысль о завершенности органического мира, только что высказанную нами.
Что в красоте обнаруживается органическая энергия – это оправдывается всеми фактами, удостоверяющими нас, что повышения первой всегда совпадают с повышениями второй. С не меньшею твердостью мы можем думать, что сама органическая энергия есть не иное что, как сила целесообразности, движущей различие органических форм: ибо во времени эта энергия является нарастающею, а нарастание присуще только целесообразным процессам. Наконец – и соображения, и наблюдение фактов показывают, что формы проявления красоты не неопределенно разнообразны, но что они связаны между собою, и связь эта обнаруживается в том, что всякий раз, когда данное количество энергии выражено уже в одном виде красоты, оно не ищет выразиться еще в другом; то есть, этот последний (другой вид красоты) не проявляется, отсутствует.
Теперь, держа в мысли эти объяснения, обратимся к рассмотрению фактов, представляемых красотою человека.
XII
Как известно, род человеческий распадается на несколько рас, из которых четыре цветных и одна белая. Между первыми одна – монгольская – очень близко подходит к белой расе; она едва может быть названа цветною, тогда как остальные три имеют цвет резко выраженный (американская, негрская и малайская).
Было предметом многих соображений взаимное отношение этих рас; различие их настолько резко, что являлся даже вопрос об единстве человеческого рода, высказывалась мысль о независимом происхождении отдельных рас. Не видели промежуточного, соединительного звена между ними и не могли представить способа, каким одна раса могла бы произойти от другой.
Но этих промежуточных звеньев напрасно искали и в пластах земли для органических форм. Их не нашли; и никаким оправданием для этого не может служить довод, что искали еще недостаточно, и в будущем может быть найдено то, что не отыскано до сих пор. Потому что если промежуточные формы суть те, которые еще не доросли до видовой или уже переросли ее (для образования нового вида), и все это движение совершалось без каких-либо резких переходов, путем только медленного накопления индивидуальных отличий, то ясно, что переходных между видами форм должно быть неизмеримо более, нежели чистых видовых форм. Последние суть только моменты в развитии органического мира; первые же представляют собою обычную, постоянную форму его существования. Время, в которое образуется вид, продолжительнее, нежели то время, в котором он пребывает неподвижно; а следовательно, и нарождаемых им особей в переходном состоянии более, чем нарождаемых в чистом, и первые должны бы находиться повсюду и часто, а вторые лишь иногда и в редких местах. Их численное отношение можно сравнить с отношением суточных колебаний магнитной стрелки к ее вековым возмущениям, которые образуются через медленное нарастание неправильностей в первых; или еще – это отношение можно сравнить с положением часовой стрелки, которая только 24 раза в сутки совпадает с крупными, большими делениями круга (показывает часы) и все остальное время, целые тысячи моментов, находится вне их в промежуточных, соединяющих точках. И так же редки и удивительны должны бы быть чистые, не промежуточные формы, находимые в земле, как вообще редки и удивляют нас случаи, когда, войдя в комнату и видя на стене циферблат часов – мы замечаем, что стрелки их, минутная и часовая, точно указывают целый исполнившийся, в эту минуту отбиваемый молоточком механизма, час.
Поэтому если переходных форм нигде не находится, то это может происходить только оттого, что их вовсе никогда и не было. И в самом деле, кроме этого предполагаемого способа возникновения органических форм путем сложения незаметных индивидуальных изменений, которые полезны особи в ее борьбе за существование с другими себе подобными (теория Дарвина), – есть еще другой способ, и он наблюдался уже в исторические времена. Под воздействием сил, природа которых еще не разгадана, иногда появляется у какой-нибудь особи известного определенного вида потомство с новым признаком, настолько крупным и резко выраженным, что, руководствуясь обычными приемами классификации, мы должны принять его за новый вид или за новую разновидность[29]. И, однажды возникнув, этот признак передается дальнейшему потомству, удерживается в нем как постоянное видовое отличие, а не как индивидуальное, которое всегда то появляется, то исчезает. Таким образом, виды не происходят медленно: это – предположение, которое не оправдано ни одним фактом; они рождаются, и это – уже факт, который нуждается только в объясняющей теории.









