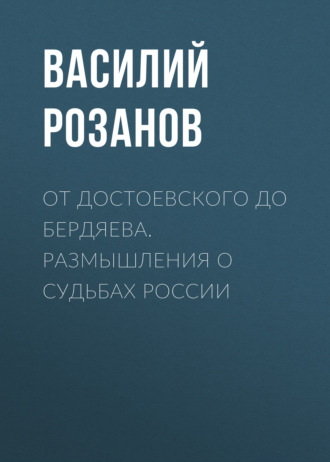 полная версия
полная версияОт Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
И таких слов и страниц – тысяча. Не прав ли я был, приветствуя, что мы получаем вековую книгу. Но читатель отметит и подробности: глубоко личный дух автора веет на каждой странице и сковывает массу сведений, знаний, буквально «всю академию человечества», в один металлический сплав. Но и этого мало: что же веет нам в странице? А позвольте спросить: что не веет? Что тут, человек ли? природа ли?
Религия, философия, поэзия? Нельзя различить. Страница глубоко цельна, не заметишь отдельных сплетающих ее нитей, отдельных составляющих ее ароматов: автор говорит об осени, просто об осени, которую мы знаем все, и сливает ее дыхание, ее вид, ее частности – с мыслью о смерти. Итак не видит перед собою более «друга», к которому пишется письмо, то самую смерть и острие ее, жало ее – сливает с идеей жалобного расставания людей, страшной их разлуки, поправляемой только надеждою на воскресение…
И вот уже – все темы, все загадки перед читателем: но не как философская проблема, а как осязаемая мука каждого человека. Нет, больше, глубже: как мука от «я» к «ты», от «родного» к «родному», от «близкого к близкому». Это – тон религии. Где слезы – уже не философия, а религия; и где «нож смерти близкого» – я хочу не Канта, а Христа. Вполне удивительная страница, которую мы привели. Ничего не навязывая человеку, ничего не подсказывая ученику и читателю, – автор сам как «бренное создание» говорит и рассказывает, что ему нужно. Мы стоим перед философскою и религиозною трагедиею, и страницы книги наливаются огнем.
Через который пропускается вся «духовная академия человечества», с ее попытками, с ее молитвами около «тайн вечности и гроба».
Но мне хочется, однако, торопливо сказать, что лично мне более всего нравится в книге, которую будут разбирать и философы, и богословы:
Благородство целого, – в замысле и исполнении.
Не ее философская и богословская сторона более всего привлекает, не ее «выводы», направление. Даже не самое содержание. Мне нравится самое течение ее; мне нравится сам странник, в вечер дней своих или в вечернем настроении души, вышедшей с такою любовью к людям, древним, новым, всяким, поискать в «лесу истории», в «степях истории», цветочков и маленьких, и больших, пахучих и скромных, красивых и некрасивых… Но все – на одну тему, вечную тему. Говоря его же словами, – мне нравится более всего его «дружба к человечеству», белая, тихая, бессорная, бессварная. Книга совершенно лишена полемики. Она собирает только положительные цветы, не вырывая ничего сорного.
II
Позволю себе еще раз остановить внимание читателей на замечательной книге.
«Живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов», так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моих набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на непосредственный опыт, можно обозреть и оценить духовные сокровища церкви. Только водя по древним строкам влажною губкой, можно омыть их живой водой и разобрать буквы церковной письменности. Подвижники церковные живы для живых и мертвы для мертвых. Для потемневшей души лики угодников темнеют, для параличной – тела их застывают в жуткой неподвижности. Разве неизвестно, что кликуши и бесноватые боятся их? И не грех ли перед церковью заставляет боязливо коситься на нее?»
В Саровском и в Понетаевском монастырях мне приходилось видеть разительные случаи, пугающие посторонних, этого испуга, этого страха лак называемых «юл и куш» и так называемых «бесноватых» перед иконами, и именно – перед «особо чтимыми», как называют в народе. Есть какая-то непосредственно ощутимая связь между «иконою» и «одержимым», всем видная, которой не заметить невозможно: связь взаимного отталкивания, вражды и страха. Связь эта живая, – и по ее неизъяснимости и чуду она пугает сторонних. Помню – пугала меня. Я «видел» и «был испуган» тем, чего абсолютно не понимал. То есть не понимал с рациональной, позитивной точки зрения.
Но ясные очи по-прежнему видят лики угодников сияющими, как лицо ангела, – продолжает Флоренский. – Для очищенного сердца они по-старому приветливы; как встарь вопиют и взывают к имеющим уши слышать. Я спрашиваю себя: почему чистая непосредственность народа невольно тянется к этим праведникам? Почему у них находит себе народ и утешение в немой скорби, и радость прощения, и красоту небесного празднества? Не обольщаюсь я. Знаю твердо, что зажег я себе не более, как лучинку или копеечную свечечку желтого воска. Но и это, дрожащее в непривычных руках, пламешко мириадами отблесков заискрилось в сокровищнице св. Церкви. Многими веками, изо дня в день, собиралось это сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая кружинка за кружинкою, червонец за червонцем. Как благоуханная роса на руно, как небесная манна, выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады. Затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к бого-употреблению, – лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радости бого-общения и святые муки острого раскаяния, благоухание молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно-глубокие прозрения в вечность и детская умиренность души, благоговение и любовь, любовь без конца… Текли века, а это все пребывало и накапливалось…»
Вот, господа атеисты и позитивисты, господа политики, социалисты, – «коллектив», говоря вашим языком, какого вам никогда не удастся накопить, ибо сами вы строите и разрушаете, вечно строите и каждую минуту разрушаете. Все, все, о чем вы мечтаете или мечтали в лучшие свои минуты, уже содержится, уже есть в том удивительном здании или, вернее, в том удивительном «сокровище», говоря языком Флоренского, которое именуется «церковью». Это уже не мечта, это уже не ожидание или требование, а это – есть, «накоплено». Что накоплено? Чем накоплено? Трудом целого человечества в удивительной работе души и тела, массы и личности, но куда отлагались только «лепестки роз», а тернии откидывались. «Церковь» есть сокровищница «святого», а «святое» – это ум, но не один ум, это – сердце, но не одно сердце; это – судьба Человеческая в ее трагические и героические минуты. Чего тут нет? Все – есть. Но исключено все худое, грешное: исключено, однако, не по фарисейскому принципу «чистоты» и «мы одни избраны», а исключено после героической борьбы против зла, всяческой черни, всего гадкого. Церковь – венец тысячелетней, героической борьбы; венец и победа. Вот почему попытки расхищать эти сокровища, ломить это здание – так ужасны; ужасно и отвратительно само непонимание его. Когда говорят «цивилизация» – надо слышать ухом: «церковь»; когда говорят «культура» – опять же надо переделывать в ухе: «церковь». До такой степени «церковь» есть конкретное, личное имя и «цивилизации» и «культуры», ибо около нее все остальное в «культуре» и «цивилизации» так мелко, ничтожно, обыкновенно и не чудно. Чудное в цивилизации, трудное в ней, истинное благое – именно церковное и церковное… И чтобы сказать это – даже не нужно (если бы, по несчастию, не случилось) самому быть церковником: это видно со стороны и глазом, конечно если глаз умеет «различать», если это не есть оловянный глаз Конта или Спенсера…
«Церковность – вот имя тому пристанищу, – продолжает автор, – где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум. Пусть ни я, ни другой кто не мог, не может и, конечно, не сможет определить, что есть церковность! Пусть пытающиеся сделать это оспаривают друг друга и взаимно отрицают формулу церковности! Самая эта неопределимость церковности, ее неуловимость для логических терминов, ее несказуемость – не доказывает ли, что церковность это жизнь, особая, новая жизнь, данная человеком, но, подобно всякой жизни, недоступная рассудку?..»
Обходя католическую и протестантскую формулы «церковности», абсолют «иерархии» у первой и абсолют «научности» у второй, – П. А. Флоренский переходит к православию и говорит: «в нем нет понятия церковности, но есть сама она, – и для всякого живого члена церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Но жизнь церковная усвояется и постигается лишь жизненно, – не в отвлеченности, не рассудочно. Если уж надо применять к ней какие-нибудь понятия, то ближе всего сюда подойдут понятия не юридические (в римской церкви) и не археологические (в лютеранстве – попытка восстановить первоначальную церковь), а понятия биологические и эстетические. Что такое церковность? Это – новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? Красота. Да, есть особая красота, духовная, и она, не уловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к определению, что православно и что нет. Знатоки этой красоты – старцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые отцы называют аскетику.
Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, по не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, – прямой опыт православный. Рассказывают, что плавать теперь за границей учатся на приборах, – лежа на полу; точно так же можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью, – в кабинете своем. Но чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажить православно, – и нет иного пути».
Эти слова, как «критерий биологический и эстетический» в религии, этот призыв – «зажить по-православному», чтобы проверить и оценить все, поразят новостью каждого, кто привык читать богословские книги, с их бесконечными умствованиями, длинными выкладками, бесконечными цитатами и текстами.
В 13 «Письмах к другу» П. А. Флоренский рассматривает, в лирическом и личном обращении, темы:
Два мира.
Сомнение.
Триединство.
Свет истины.
Утешитель.
Противоречие.
Грех.
Геенна.
Тварь.
София.
Дружба.
Ревность.
И в обширных приложениях:
• Некоторые понятия из учения о бесконечности.
• Задача Кэрролл и вопрос о догмате.
• Иррациональность в математике и догмате.
• Понятие тождества в схоластической философии.
• Понятие тождества в математической логике.
• Время и Рок.
• Сердце и его значение в духовной жизни человека по умению Слова Божия.
• Икона Благовещения с космическою символикою.
• К методологии исторической критики.
• Бирюзовое окружение на иконах Софии Премудрости Божией и символика голубого и синего цвета.
• «Амулет» Паскаля.
• К истории термина «антиномия».
• Эстетизм и религия.
• Гомотипия в устройстве человеческого тела.
• О троичности.
• Основные знаки и простейшие формулы логистики.
Окинув глазом, читатель сразу же видит из этого перечня, насколько автору одинаково близки и, так сказать, сродственны мир спиритуалистический и физический, вопросы благочестия и вопросы математики. Мы дали читателю образчик из его мышления религиозного. Дадим из «Заметок о Троичности» образчик суждения научного:
«Числа вообще оказываются невыводимыми ни из чего другого, и все попытки на такую дедукцию терпят решитель нос крушение… Число выводимо лишь из числа же, – не иначе. А так как глубочайшая характеристика сущностей связана именно с числами, то сам собою напрашивается пифагоровско-платоновский вывод, что числа суть основные, за-эмпиричеасие корни вещей, – своего рода вещи в себе. В этом смысле опять-таки напрашивается вывод, что вещи, в известном смысле, суть явления абсолютных трансцендентных чисел. Но, не вдаваясь в эти сложные и тонкие вопросы, мы скажем только, что число три, в нашем разуме характеризующее безусловность Божества, свойственно всему, что обладает самозаключенностью, – присуще заключенным в себе видам бытия. Положительно, число три являет себя всюду, как какая-то основная категория жизни и мышления» (с. 595).
И он указывает, что, напр.:
В пространстве это – длина, ширина и высота.
Во времени – прошедшее, настоящее, будущее.
В грамматике – три лица: я, ты, он.
В семье – отец, мать, ребенок.
В личности – ум, чувство, воля.
В литургии – троекратное повторение обрядов, троекратное возглашение призываний.
И заключает отсюда:
«Итак, никто не сказал, почему божественных ипостасей три, а не иное число. Не случайность этого числа, внутренняя разумность его чувствуется в душе, но нет слов, чтобы выразить свое чувство. Во всяком случае, бесчисленные попытки дедуцировать три-испостасность Божества мы не можем признать удачными. Утешением и назиданием философам да послужит же то, что даже числа измерений пространства, подразделений времени, лиц грамматики, членов первичной семьи, слоев жизнедеятельности человеческой, координат психики и т. д, и т. д., – они тоже не дедуцировали и даже не объяснили его смысла. Мало того. Чувствуется, что есть какая-то глубокая связь между всеми этими троичностями, но какая это вечно бежит от понимания, именно в тот момент, когда хочешь почти найденную связь пригвоздить словом».
Читатель видит из приведенного образца, что автор, указующий путь к «церковным старцам» на монастырской завалинке, не «дурак» и в математике. Он сковал крепкую книжку: и сколько бы собак ни грызло ее, они оборвут «конец штанины» у автора и не затронут его сюртука или рясы (он – священник). В Москве, кажется, она производит впечатление. Художник М. В. Нестеров прислал мне повестку на заседание Религиозно-философского общества в память Влад. Соловьева, где значится докладом чтение князя Е. Н. Трубецкого – именно об этой книге, под заглавием: «Свет Фаворский и преображение ума. По поводу книги П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». На повестке обозначены и оппоненты чтению, всего 12, из них известны всей России: С. Н. Булгаков, С. Н. Дурылин, Вячеслав Иванов, Г. А. Рачинский, И. И. Фудель. Желательно, чтобы кто-нибудь доставил в Петербург обстоятельный отчет о прениях.
Во всяком случае славянофильство приехало на какую-то многозначительную станцию.
Комментарии
Тексты публикуются, кроме особо оговоренных случаев, по Собранию сочинений В. В. Розанова, выходящему в московском издательстве «Республика» с 1994 года. Указаны первые публикации статей.
Почему мы отказываемся от «наследства 60–70 годов»?
Впервые: Московские Ведомости, 1891, 7 июля. № 185.
И грозный час пришел… – Возможно, имеется в виду строка из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (ч. 2. гл. XV): «И час раскаянья пришел».
1 марта 1881 года – дата убийства императора Александра II террористами.
…один из самых деятельных писателей 60-х годов – речь идет о Н. В. Шелгунове.
…прогулки по нагорному берегу Волги – гимназические годы (с 1872 по 1878) Розанов провел в Нижнем Новгороде.
Сибирский университет – Томский университет учрежден в 1880 г., открыт 22 июля 1888 г.
12 января – по новому стилю 25 января, день основания (1755) Московского университета («Татьянин день»).
…спор о дарвинизме – полемика вокруг учения Ч. Дарвина, в которой приняли участие Н. Я. Данилевский, В. С. Соловьев, Н. Н. Страхов, К. А. Тимирязев и др. См. книгу Розанова «Природа и история» (СПб., 1900).
В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?
Впервые: Московские Ведомости», 1891, 14 июля. № 192.
Причина действует только там, где она есть» – Фома Аквинский. Сумма теологии, I, q 2, 3 с.
Европейская культура и наше к ней отношение
Впервые: Московские Ведомости. 1891. 16 августа. № 225.
В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева – «Мои воспоминания» Ф. И. Буслаева публиковались в 1890–1892 гг. в «Вестнике Европы». Описываемый Розановым случай см.: Вестник Европы, 1891, № 6.
Красота в природе и ее смысл
Впервые: Русское Обозрение, 1895, № 10. С. 601–623; № 11. С 132-159; № 12. С. 639–670 под названием «Что выражает собою красота природы?». Под настоящим названием статья вошла в книгу Розанова «Природа и история» (СПб., 1900; 2-е изд. СПб., 1903), по которой печатается.
«Вопросов Философии и Психологии» за 1894 год – на самом деле статья В. С. Соловьева «Красота в природе» опубликована в № 1 журнала за 1889 год (с. 1–50).
Размолвка между Достоевским и Соловьевым
Впервые: Новое Время. 1902. 11 октября. №>9556.
Памяти Ф. М. Достоевского (28 января 1881–1906 г.)
Впервые: Новое Время, 1906, 28 января. № 10730.
…новое «Полное собрание» – Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевскою. СПб., 1904–1906. Т. 1 – 14.
Экономический и социальный вопрос у Достоевского (к 25-летию его кончины)
Впервые: Русское Слово, 1906. 28 и 30 января. № 27, 29. Подпись: В. Елецкий.
На лекции о Достоевском
Впервые: Новое Время, 1909, 4 июля. № 11. С. 64.
Чем нам дорог Достоевский? (К 30-летию со дня его кончины)
Впервые: Новое Время. 1911. 6 августа. № 12. С. 15.
…статья С. А. Андриянова о Достоевском – Вестник Европы, 1911. № 8.
О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетениях с жизнью)
Впервые: Русское Слово, 1911 – 28 октября, 4 и 15 ноября. № 248, 254, 263. Подпись: В. Варварин.
…лучшую из русских фамилий. – Как свидетельствует письмо Розанова к М. Горькому от июня 1911 г., речь идет о Барятинских (князь В. В. Барятинский и его жена артистка Л. Б. Яворская).
Но лишь божественный глагол… – А. С. Пушкин. Поэт (1827).
Загорит, заблестит луч денницы – строки из песни Рахили в драме Н. В. Кукольника «Князь Даниил Васильевич Холмский» (1840, д. II, сц. 2), которые Достоевский цитирует в «Дневнике писателя» (1877. Март. Гл. 2, III).
«кающийся дворянин» – выражение, введенное Н. К. Михайловским (очерки «Вперемежку», 1876 – 1877).
Эстетическое понимание истории. Теория исторического прогресса и упадка
Впервые: Русский Вестник, 1892. № 1. С. 156–188; № 2. С. 7–35; № 3. С. 281–327. В № 1 под названием «Эстетическое понимание истории»; в № 2 и 3 под названием «Теория исторического прогресса и упадка». Эпиграф взят из начала книги К. Н. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции» (М., 1889).
На буйном пиршестве задумчив он сидел… – одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1839).
Поздние фазы славянофильства
Впервые: Новое Время, 1895, 14 февраля. № 6811 (статья «Н. Я. Данилевский»); Литературное приложение к «Торгово-Промышленной Газете», 1899 – 4 апреля. № 2 (статья «К. Н. Леонтьев»), Под обшей рубрикой «Поздние фазы славянофильства» статьи соединены в книге Розанова «Литературные очерки» (СПб., 1899).
Все его сочинения изданы… в 1868 году… – двухтомное собрание сочинений И. В. Киреевского вышло в 1861 г.
История нового права Блюнчли – Блунчли И. История общего государственного права и политики от XVI века по настоящее время. Рус. пер. Спб., 1874.
Макс Штирнер ум. 1855 году – немецкий философ Макс Штирнер умер в Берлине 26 июня 1856 г.
Тюбингенская школа богословия – направление в немецкой протестантской теологии, развивавшееся в университете г. Тюбингена и обратившееся к критической интерпретации библейских источников.
…умершего в 1892 году – К. Н. Леонтьев скончался 12 ноября 1891 г.
Эти бедные селенья… – Здесь и далее цитируется одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1855).
…письмо-послание Фету – Леонтьев К. Н. Кстати и не кстати. Гражданин, 1889, № 80, 81, 83.
Константин Леонтьев и его «почитатели»
Впервые: Новое Слово, 1910. Июль. № 7. С. 24–26.
Неузнанный феномен
Впервые в качестве предисловия (без заглавия) к публикации «Из переписки К. Н. Леонтьева». Русский Вестник, 1903. № 4. С. 633–643). Под настоящим названием в отдельном издании (Спб., 1911).
Неоценимый ум
Впервые: Новое Время, 1911. 21 июня. № 12669.
К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (1891 – 12 ноября 1911)
Впервые: Новое Время, 1911, 12 ноября. № 12813.
Из «Опавших листьев» и «Мимолетного» 18 июня 1915 г.
Впервые: Розанов В. Опавшие листья (Короб 1). СПб., Тип. т-ва «А. С. Суворин – Новое Время», 1913. С. 478–492. Печатается по: Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 191–194. «Мимолетное». 18 июня 1915 года – впервые в кн.: Розанов В. В. Собрание сочинений. Мимолетное. М., 1994. С. 189–190.
…своим постригай в монашество – в 1871 г. Леонтьев жил в монастыре на Афоне, с 1877 г. – в Оптиной пустыни, где тайно постригся в монахи.
«По-алкивиадски» – Военный деятель древних Афин Алкивиад побил в ночь на 11 мая 415 г. до и. э. статуи богов (гермы) на улицах Афин, за что был выслан.
Старый муж, грозный муж… – А. С. Пушкин, «Цыганы» (1824).
«битва с Лицинием» – римский император Лициний Валерий Лициниан в союзе с императором Константином Великим в 312 г. одержал победу в борьбе за власть с двумя другими претендентами; в 324 г. побежден Константином, взят в плен и казнен.
«сим победиши» – римский император Константин Великий в 312 г. накануне сражения против Максенция увидел на небе крест с греческой надписью «Сим знаменем победиши», после чего победил и объявил христианство государственной религией.
«Камбиз, идущий на Египет» – в 525 г. до н. э. персидский царь Камбиз завоевал Египет.
Александр, завоевавший Персию – в 334–331 гг. до н. э. Александр Македонский разбил войска Дария III и захватил Персию. В 326 г. до н. э. нанес поражение древнеиндийскому царю Пору.
Повесть Вл. Соловьева о «монгольском завоевании Европы» – «Краткая повесть об антихристе» (1900).
Фустанеллы – широкие крахмальные юбки, часть греческого мужского национального костюма.
Сотири – персонаж в книге Леонтьева «Восток, Россия и славянство».
…письма его к Александрову – письма Леонтьева к редактору-издателю «Русского Обозрения» А. А. Александрову печатались в «Богословском Вестнике» и вошли в книгу Александров Ан. Памяти К. Н. Леонтьева. Сергиев Посад, 1915.
«И шум камней упавших был ему ответом» – перефразировка сгрок из стихотворения Я. П. Полонского «Бэда-проповедник» (1841).
К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве
Впервые: Новое Время, 1915.9 декабря. № 14279
«Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве» – статья Леонтьева напечатана в «Русской Мысли». 1915. № 9.
О Конст. Леонтьеве
Впервые: Новое Время, 1917. 22 февраля. № 14715.
С. Н. Булгаков произнес речь… – опубликована в «Биржевых Ведомостях» 9, 16, 22 декабря 1916 г. (утренний выпуск) под названием
«Победитель побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева)». Переиздана в кн.: Булгаков С. Тихие думы. М., 1918.
«О чем ты веешь, ветр ночной…» – одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1836).
Моя ж печаль бессменно тут… – М. Ю. Лермонтов. Демон, II. 10.
«Русь – деревня» – обыгрывается эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина» Пушкина.
«мы ленивы и нелюбопытны» – А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. 2.
…его письма к К. А. Губастову – письма Леонтьева к Губастову печатались в «Русском Обозрении» в 1893–1897 гг.
Ответ г. Владимиру Соловьеву
Впервые: Русский Вестник, 1894. № 4. С. 191–211.
Гром победы раздавайся… – Г. Р. Державин. Хор по случаю взятия Измаила (1791).
Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической
Впервые: Русский Вестник, 1894. № 7. С. 198–235.
К лекции г. Вл. Соловьева об Антихристе
Впервые: Мир искусства, 1900. № 9/10 (май). Художественная хроника. С. 192–195. В редакции «Нового Времени» статья была отклонена и публиковалась в «Мире Искусства» с сокращениями. Печатается по: Контекст. 1992. М., 1993. С. 81–86.
«Сквозь туман кремнистый путь блестит…» – здесь и далее строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» (1841).
…Студеный ключ, играя по оврагу… – М. Ю. Лермонтов. Когда волнуется желтеющая нива… (1837).
«Творения Иннокентия» – речь идет о книге «Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического». СПб., 1870–1874. Т. 1–6.
…уловил г. Вл. Соловьев в «Книжках Недели» – в основе лекции Соловьева лежала его «Повесть об антихристе» (Книжки «Недели», 1900. Март).
На границах поэзии и философии (Стихотворения Владимира Соловьева)
Впервые: Новое Время, 1900. 9 июня. № 8721.









