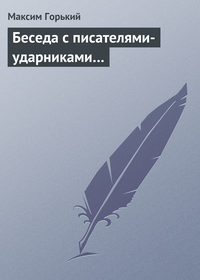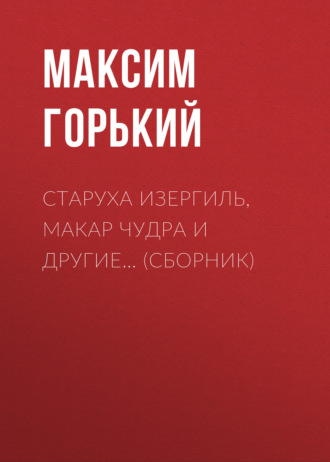 полная версия
полная версияСтаруха Изергиль, Макар Чудра и другие… (сборник)
Захлёбываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стёклах.
– Помилуй мя, боже, помилуй мя, – просит она шопотом.
Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:
– Кто меня любит, господи, кому я нужна?
Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно её пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка, – вот бы грызла она его!. Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо её становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:
– Ты думаешь – легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила – для чего? Вот – живу кухаркой у них, сладко это мне? Привёл сын чужую бабу и променял на неё свою кровь – хорошо это? Ну?
– Нехорошо, – искренне говорил я.
– Ага? То-то…
И она начинала бесстыдно говорить о снохе:
– Бывала я с нею в бане, видела её! На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..
Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала её речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.
– Баба – сила, она самого бога обманула, вот как! – жужжала она, пристукивая ладонью по столу. – Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!
О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что "Ева – бога обманула".
На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырёх жили офицеры, в пятой – полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, – звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.
Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:
– Довольно, мамаша…
– Господи, уж и слова мне нельзя сказать! – жаловалась рассказчица.
Виктор поощрял её:
– Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь…
Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.
– Напрасно вы, мамаша, берёте деньги, не жалко мне их, а – напрасно!
– Я ведь для нищих, я – на свечи, в церковь…
– Ну, какие там нищие! Испортите вы Виктора вконец.
– Не любишь ты брата, великий грех на тебе!
Он уходил, отмахиваясь от неё.
Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:
– Не могла больше-то, гвозди-козыри!
– А ты жри скорее, чтобы не увидали…
– Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, вилки в затылке!
Однажды я достал горшок и съел пару оладей, – Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.
Должно быть, подражая брату, который часто говорил "звери-курицы", Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.
– Мамаша – кругом направо! – где мои носки?
Он преследовал меня глупыми вопросами:
– Алёшка, отвечай: почему пишется – синенький, а говорится – финики? Почему говорят – колокола, а не – около кола? Почему – к дереву, а не где пл'ачу?
Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как "ужасно смешно", "до смерти хочу есть", "страшно весело"; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, весёлое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.
Я спрашивал их:
– Разве можно так говорить?
Они ругались:
– Какой учитель, скажите? Вот – нарвать уши…
Но и "нарвать уши" казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.
Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:
– А всё-таки уши-то не оторваны!
Крутом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного "публичными домами", "гулящими" девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжёлая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная сутолока, суета. И на всём здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.
Плохо мне жилось, но ещё хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с чёрного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.
– А, это ты, Акулина, – небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.
Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив всё лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.
Это мучило меня, и я сердито говорил:
– Что ты где села?
Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:
– А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!
– Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай, начинала хозяйка свои жалобы.
Нередко она злорадно спрашивала сестру:
– Что, Акулина, нищенкой живешь?
– Эка беда…
– И всё – не беда, коли нет стыда.
– Говорят – Христос тоже милостыней жил…
– Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос не нищий, а сын божий, он придёт, сказано, со славою судить живых и мёртвых – и мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись… Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых!
– Я ведь посильно помогала тебе, – равнодушно говорила бабушка. – А господь нам отплатил, ты знаешь…
– Мало вам! Мало…
Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал её злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил её в такие минуты.
Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.
– Идите в столовую, ничего, идите!
Сестра кричала вослед бабушке:
– Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!
Хозяин встречал бабушку весело:
– А, премудрая Акулина, как живёшь? Старичок Каширин дышит?
Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.
– Всё гнёшься, работаешь?
– Всё работаю! Как арестант.
С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но – как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:
– Да-а, Варвара Васильевна… Какая женщина была – богатырь, а?
Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово:
– Помните, я ей тальму подарила, чёрную, шёлковую, со стеклярусом?
– Как же…
– Совсем ещё хорошая тальма была…
– Да-да, – бормотал хозяин, – тальма, пальма, а жизнь – шельма!
– Что это ты говоришь? – подозрительно спрашивала его жена.
– Я? Так себе… Дни весёлые проходят, люди хорошие проходят…
– Не понимаю я, к чему это у тебя? – беспокоилась хозяйка.
Потом бабушку уводят смотреть новорождённого, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:
– Хороша старуха, бабушка твоя…
Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:
– Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они…
– Эх, Олёша, я всё вижу, – отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она всё видит, всё знает, знает и то, что живёт в моей душе этой минутою.
Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:
– Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, – зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня… А сын, Михаила, Сашу прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю – не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж… – И шепчет на ухо мне: – Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?
Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу, как во сне.
Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, куда убежишь?
Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.
Но я обязан был ходить в церковь; по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне.
Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густозолотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся тёмные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчёлы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.
Всё вокруг гармонично слито с пением хора, всё живёт странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, – качается в густой, как смола, тёмной пустоте.
Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:
Обложили окаянные татаровеДа своей поганой силищей,Обложили они славен Китеж-градДа во светлый час, заутренний…Ой ли, господи, боже наш,Пресвятая богородица!Ой, сподобьте вы рабей своихДостоять им службу утренню,Дослушать святое писание!Ой, не дайте татаринуСвяту церкву на глумление,Жён, девиц – на посрамление,Малых детушек – на игрище,Старых старцев на смерть лютую!А услышал господь Саваоф,Услыхала богородицаТе людские воздыхания,Христианские жалости.И сказал господь Саваоф.Свет архангеле Михаиле:– А поди-ка ты, Михайло,Сотряхни землю под Китежем,Погрузи Китеж во озеро;Ин пускай там люди молятсяБез отдыху да без усталиОт заутрени до всенощнойВсе святы службы церковныеВо веки и века веков!В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом: кажется, я и думал в форме её стихов.
В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.
Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чём-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невесёлой доле моей – сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:
Господи, господи – скушно мне!Хоть бы уж скорее вырасти!А то – жить терпенья нет,Хоть удавись, – господи прости!Из ученья – не выходит толку.Чортова кукла, бабушка Матрёна,Рычит на меня волком,И жить мне – очень солоно!Много "молитв" моих я и до сего дня помню, – работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами – часто они не зарастают всю жизнь.
В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах.
Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замёрзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживёт.
Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идёшь – точно на крыльях несёшься; один, как луна в небе; перед тобою ползёт твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжёлом тулупе, рядом с ним – трясётся собака.
Неуклюжий человек похож на собачью конуру, – она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорчённая собака – за нею.
Иногда встретятся весёлые барышни и кавалеры – я думаю, что и они тоже убежали от всенощной.
Порою, сквозь форточки освещённых окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи – тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, принюхиваясь, прислушиваясь, догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всенощная, а они – весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течёт меднострунный звон.
Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц – Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунною ночью, в ростепель, перед масленицей; из квадратной форточки окна, вместе с тёплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать её мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой – потому что слушать её был почти больно. Иногда она пела с такой силой, что – казалось – весь дом дрожит и гудят стёкла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слёзы.
Незаметно подошёл ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:
– Ты чего тут торчишь?
– Музыка, – объяснил я.
– Мало ли что! Пошёл…
Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился по окно, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу весёлый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал её во сне.
Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весною, снова услышал там виолончель – она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.
Ночные прогулки под зимними звёздами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всенощные. Мешали пьяные, городовые и "гулящие" девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замёрзли и не занавешены изнутри.
Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, – предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь.
Видел я в подвале, за столом, двух женщин, – молодую и постарше; против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурив брови, откинувшись на спинку стула; а постарше – тоненькая и пышноволосая – вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у неё задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала – он упал на колени перед той, пышноволосой, и стал целовать руки её.
В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал её, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял её и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушёл, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь.
Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлечённый ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:
– В какой церкви был? Какой поп служил?
Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают, знали всё – им было легко поймать меня во лжи.
Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда, – богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин, – даже ругаясь, они грозили друг другу:
– Погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлую!..
В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они всё подгорали у неё; красная от огня, она гневно кричала:
– А, черти бы вас взяли…
И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завыла:
– Ба-атюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я её в чистый-то понедельник, го-осподи! Встала на колени и просила со слезами:
– Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, господи, дуру старую…
Выпечённые оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:
– Вы даже в посте на скоромных сковородах печёте…
Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни – от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я всё оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх, – он исходил из угла кухни, где перед тёмными образами горела неугасимая лампада.
Рядом с полкой – большое окно, две рамы, разъединённые стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я – всё висит на самом краю этой пустоты и, если сделать резкое движение, всё сорвётся в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звёзд, в мёртвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.
Не помню, как я вылечился от этого страха, но я вылечился скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого ещё не сделано, без вины наказывать меня – не закон, а за чужие грехи я не ответчик.
Прогуливал я и обедни, особенно весною, – непоборимые силы её решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку – это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.
Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силён и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах.
Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним; разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце моё билось трепетно.
Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:
– А, сосед… Ну, вставай на колени! В чём грешен?
Он накрыл голову мою тяжёлым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.
– Старших слушаешься?
– Нет.
– Говори – грешен!
Неожиданно для себя я выпалил:
– Просвиры своровал.
– Это – как же? Где? – спросил священник, подумав и не спеша.
– У Трёх Святителей, у Покрова, у Николы…
– Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, – понимаешь?
– Понимаю.
– Говори – грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?
– Когда ел, а то – проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду…
Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал ещё несколько вопросов и вдруг строго спросил:
– Не читал ли книг подпольного издания?
Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:
– Чего?
– Запрещённых книжек не читал ли?
– Нет, никаких…
– Отпускаются тебе грехи твои… Встань!
Я удивлённо взглянул в лицо ему – оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.
– Я в вашу беседку камнями кидал, – заявил я.
Священник поднял голову и сказал:
– И это нехорошо! Ступай…
– И в собаку кидал…
– Следующий! – позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.
Я ушёл, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а всё вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело, – у него тоже было много чёрных книг, толстых, с непонятными рисунками.
На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.
Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:
– Примите меня!
– Копейку за вход в игру, – гордо заявил рябой и рыжий человек.
Но я не менее гордо сказал:
– Три под вторую пару слева!
– Деньги на кон!
И началась игра!
Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьёт эту пару – получает деньги, промахнётся – я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали, – я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой…
Но кто-то из игроков сказал:
– Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем…
Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:
– Девять копеек под левой крайней парой!
Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:
– Глядите, – он счастливый, это чертёжник со Звездинки, я его знаю!
Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:
– Чертёнок? Хар-рошо…
Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:
– Ревёшь?
Я ответил:
– Под крайней правой – три!
– И сотру, – похвастался скорняк, но проиграл.
Больше трёх раз кряду нельзя ставить деньги на кон, – я стал бить чужие ставки и выиграл ещё копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.
– Женат? – спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:
– Вы причащались?
– Ну, так что? – ответил он, осматривая меня подозрительно.
Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.
Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:
– Прогулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу – пускай отец шкуру спустит с тебя!
Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.
Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:
– Дьячку за теплоту – много ли дал?
– Пятачок, – наобум сказал я.
– И три копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!
…Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берёз, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лёжа на тёплой земле вверх лицом. А я – чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.