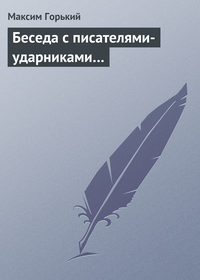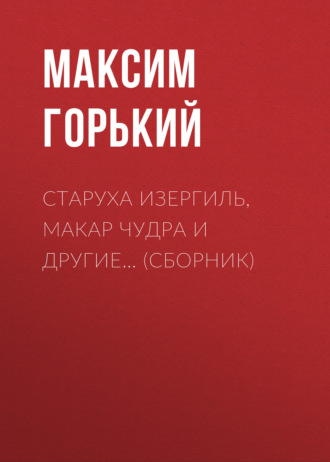 полная версия
полная версияСтаруха Изергиль, Макар Чудра и другие… (сборник)
– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага?..
Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом. А он ушёл, не оглянувшись, ещё более подавив спокойствием своим.
Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.
На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:
– Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..
"Началось колдовство!" – подумал я угнетённо.
Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в её зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.
– Это – Саша?
– А то я! – смешливо кричала кухарка.
Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, – в палец мне впилась булавка.
"Вот оно – колдовство!"
Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил её на голову ещё не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.
Но всё-таки я чувствовал себя плохо: мне всё мерещился гроб с воробьём, серые, скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг – неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга – и не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.
Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.
Помню тягостный кошмар больницы: в жёлтой, зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой чёрной бородой и рычал, присвистывая:
– Пре-освященному донесу!
Койки напоминали гробы, больные, лёжа кверху носами, были похожи на мёртвых воробьёв. Качались жёлтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, всё было ненадёжно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.
В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал:
– Мне не надо сумасшедших!
А человек на костылях орал в голову ему:
– Пре-освящен-ному-с…
Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, – я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на чёрной доске в моём изголовье, – мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.
– Тебя как зовут? – спросила она.
– Никак.
– У тебя же есть имя?
– Нет.
– Не дури, а то высекут!
Я и до неё был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.
Зажгли две лампы, их жёлтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.
В углу кто-то сказал:
– Давай в карты играть?
– Как же я без руки-то?
– Ага, отрезали тебе руку!
Я тотчас сообразил: вот – руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?
Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.
Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:
– Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – дрянь…
Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чём. Попробовать – не удастся ли улизнуть отсюда?
Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошёл к двери, половинка её была открыта, – в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня тёмными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.
– Кто бродит? Подь сюда!
Голос не страшный, тихий. Я подошёл, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, – на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая её серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.
– Это – варёны руки? Ты чего же шлёндаешь ночью? По какому закону?
Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня тёплой рукой за шею и привлёк к себе.
– Боишься?
– Боюсь!
– Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особливо со мной – я никого в обиду не дам… Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два… А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо – без них проживём, только не трусь! Понял?
Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, – мне было невыразимо приятно слушать его.
Когда он отвёл меня к моей койке, я попросил:
– Посиди со мной!
– Можно, – согласился он.
– Ты – кто?
– Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а как же иначе? Солдат для войны живёт. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком – сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!
Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в тёмном платье, а он стоял около неё и говорил:
– Поди-ка померли все, а?
В палате играло солнце, – позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребёнок шалит.
Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:
– Что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу…
– Сейчас я всё сделаю по закону, – сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слёзы с лица, говорила:
– Наш солдат, балахонский, оказался…
Я всё ещё думал, что сон вижу, и молчал. Пришёл доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:
– А дед у нас – вовсе с ума сходит, так жаден стал – глядеть тошно! Да ещё у него недавно сторублёвую из псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было – и-и!
Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идём по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лёд, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась широкорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках – весна идёт, скоро пасха!
Сердце затрепетало жаворонком.
– Люблю я тебя очень, бабушка!
Это её не удивило, спокойным голосом она сказала мне:
– Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!
Улыбаясь, она добавила:
– Вот – обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя…
И замолчала…
IIДед встретил меня на дворе, – тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:
– Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и…
– Знаем, знаем, – торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:
– Теперь – начисто разорился дедушка-то; какие деньги были, всё отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, – уж не знаю, как это у них сталось, только – разорился, пропали деньги. А всё за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал да и лишил всего…
Оглянувшись, она сообщила:
– Уж я все стараюсь господа задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, – стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдём сегодня – у меня деньги есть…
Пришёл дед, сощурился и спросил:
– Жрать нацелились?
– Не твое, – сказала бабушка. – А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.
Он сел к столу, молвив тихонько:
– Налей…
Всё в комнате было на своём месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупной подписью печатными буквами:
"Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твоё со мною по вся дни и часы живота моего".
– Это кто писал?
Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:
– Этой бумаге сто рублей цена!
– Не твоё дело! – крикнул дед. – Всё чужим людям раздам!
– Раздавать-то нечего, а когда было – не раздавал, – спокойно сказала бабушка.
– Молчать! – взвизгнул дед.
Здесь всё в порядке, всё по-старому.
В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал ещё более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.
На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер – его на страстной неделе "ветряк задушил"; Хаби – ушёл жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне всё это, черноглазый Кострома сердито сказал:
– Уж очень скоро мрут мальчишки!
– Да ведь помер только Вяхирь?
– Всё равно: кто ушёл с улицы, тоже будто помер. Только подружишься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрёт. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут – Евсеенки; парнишка – Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него; одна ещё маленькая, а другая хромая, с костылём ходит, красивая.
Подумав, он добавил:
– Мы, брат, с Чуркой влюбились в неё, всё ссоримся!
– С ней?
– Зачем? Промежду себя. С ней – редко!
Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в чёрные сердитые глаза.
Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:
– Что это с руками у тебя?
– Сварил.
– А вот я – хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!
Вздохнув, она прибавила:
– Очень долго!
На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причёсанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у неё – большие, серьёзные, в их спокойной глубине горел голубой огонёк, освещая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но – не понравилась мне. Вся её болезненная фигурка как будто говорила:
"Не трогайте меня, пожалуйста!"
Как могли товарищи влюбиться в неё?
– Я – давно хвораю, – рассказывала она охотно и словно хвастаясь. Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей… В больнице страшно?
– Да…
С нею было неловко, я ушёл в комнату.
Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.
– Пойдём, что ли? Потрудишься людям – руки-то скорее заживут…
Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была чёрная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к тёмным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звёзд, и шептала:
– Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники пред тобою, матушка!
Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углублённое тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звёзды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят её глаза; я трусливо прижался к бабушке.
– Ничего, – сказала она, – это просто собака, бесу – не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!
Подманила собаку, погладила её и советует:
– Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!
Собака потёрлась о мои ноги, и дальше пошли втроём. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках "тихую милостыню"; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.
– Устала старуха, – говорила бабушка, – домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко – годится! Охо-хо, Олёша, бедно живёт народ, и никому нет о нём заботы!
Богатому о господе не думается,О Страшном суде не мерещится,Бедный-то ему ни друг, ни брат,Ему бы всё только золото собиратьА быть тому злату в аду угольями!Вот оно как! Жить надо – друг о дружке, а бог – обо всех! А рада я, что ты опять со мной…
Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чём не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.
– Она будет с нами жить?
– А что ж? Пускай живёт, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала…
Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:
– Тут одна еврейка живет, так у ней – девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я её: "Как же ты живешь, Мосевна?" А она говорит: "Живу с богом со своим – с кем иначе жить?"
Я прислонился к тёплому боку бабушки и заснул.
Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.
Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, – с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец её, слесарь, переехал в Нижний.
– А ещё дядя, второй, так тот служит при самом царе.
Вечерами, по праздникам, всё население улицы выходило "за ворота", парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдёж, ссорясь и судача; ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в "шар-мазло", – матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание "больших", возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, – всё-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.
– Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?
Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.
Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто – до слёз и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.
Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылём, боязливо вскрикивая:
– Перестаньте!
Лицо у неё было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.
Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, – это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из чёрных, угрюмых глаз выкатываются тяжёлые, крупные слёзы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлёбываясь слезами:
– Погоди… я его кирпичом по башке… увидит!
Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплёвывать сквозь зубы и обещал:
– Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.
Всё это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.
Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.
– Здравствуй, – сказала она, трижды кивнув головой. – Кострома с тобой ходил?
– Да.
– А Чурка?
– Чурка с нами не дружится. Это всё ты виновата, влюбились они в тебя и – дерутся…
Она покраснела, но ответила насмешливо:
– Вот ещё! Чем же я виновата?
– А зачем влюбляешь?
– Я их не просила влюбляться! – сказала она сердито и пошла прочь, говоря: – Глупости всё это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются…
– Много ты знаешь! – желая обидеть её, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!
Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.
– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза её красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я ещё маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и всё… ты бы вот прочитал роман "Камчадалка", часть вторая, да и говорил бы!
Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль её – в словах её звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют её товарищи мои? А ещё говорят влюблены…
На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов "ячменного сахара", любимого ею, как я уже знал.
– Хочешь?
Она насильно сердито сказала:
– Уйди, я с тобой не дружусь!
Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:
– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.
– Я мыл, да уж не отмываются.
Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.
– Как испортил…
– А у тебя пальцы истыканы…
– Это – иголкой, я шью много…
Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:
– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать "Камчадалку" хочешь?
Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.
И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу на скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрёпанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьёзные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их овлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевёртываю всячески, это уж окончательно мешает мне понять, о чём рассказывает книга.
На коленях у меня дремлет собака, я зову её – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегает и ворчит, как осенний ветер в трубе.
– Ты слушаешь? – спрашивает девочка. Я молча киваю головой. Сумятица слов всё более возбуждает меня, всё беспокойнее моё желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живёт и горит звездою в небе.
Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:
– Хорошо ведь? Вот видишь…
С этого вечера мы часто сиживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать "Камчадалку". Я не мог ответить ей, о чём идёт речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.
Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.
На дворе льёт дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в тёмный наш угол. Людмила очень боялась, что нас "застанут".
– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.
Я знал и тоже опасался, как бы не "застали". Мы просиживали целые часы, разговаривая о чём-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.
– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить…
Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.
Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестрёнка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:
– Мы с тобой живём, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живём – мужья женам не помогают…
Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.
Бабушка говорила:
– Ой, хорошо мы живем! Свой грош – строй что хошь!
Она поощряла нашу дружбу.
– Мальчику с девочкой дружиться – это хорошее дело! Только баловать не надо…
И простейшими словами объясняла, что значит "баловать". Говорила она красиво, одухотворённо, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.
"Баловать" не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чём принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.
Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.
Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции "на караул". Тотчас же мимо наших ворот начиналось "гулянье": уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенка прикрыто, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом тёмных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обречённом движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнёт ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.
– Выпялился козёл, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа волосами, она была похожа на изработанную метлу.
Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание её от улицы, упрямо расспрашивает о чём-нибудь.
– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; её узкие монгольские глаза светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.
– Ты не сердись, мамочка, всё равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!
– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слёзы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.
Она похожа на маленький дом, грудь у неё выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зелёным платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стёкла его отражают солнце.
Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки её неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищённые.
– Погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.
Он молча косится на неё.
А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.
В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем вьются дети, тёплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен – запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рёв мужиков, звонкие крики детей, пение басовитой гармоники – всё сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо творящая земля. Всё – грубо, обнажённо и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой чёрной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряжённо ищет, куда излить их.