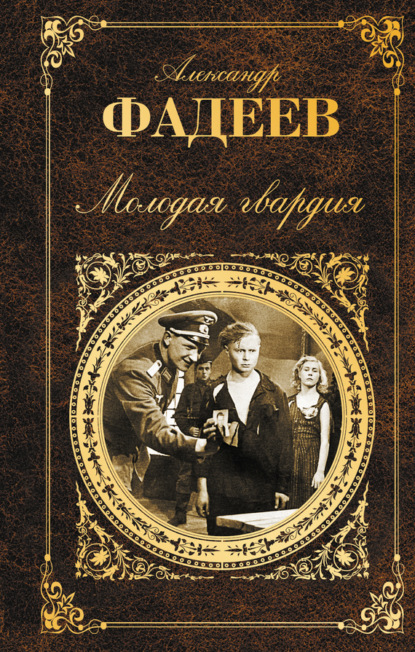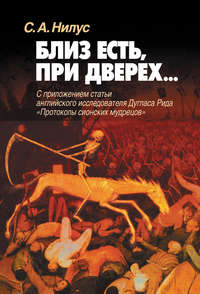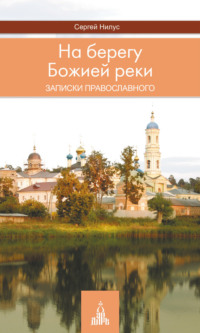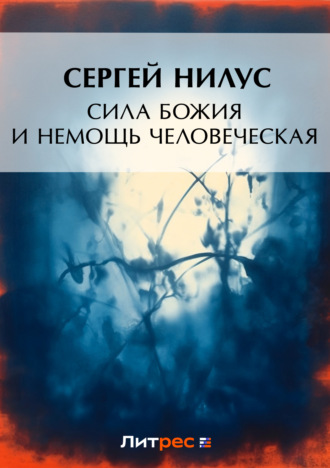 полная версия
полная версияСила Божия и немощь человеческая
Наш управляющий Иван Андреевич Дивеев очень меня уговаривал не покидать службы. Хотя он и погорячился было со мной, но, как человек очень добрый и меня любивший, тут же и раскаялся в своей горячности. Но меня уговорить было совершенно невозможно: я был уверен, что настало время для меня удалиться в монастырь. Нападение вражье в миру я приписал медлительности моей в исполнении данного уже давно обета, а чудесное обретение спирта приписал моей решимости разделаться с миром. Уверенность эта так во мне была крепка, что я убедил Дивеева в необходимости покинуть службу, чтобы в дальнейшем и для себя, и для него не навлечь еще больших неприятностей, тем более что страшное видение повторилось вновь и угрожало мне новыми ужасами. Религиозно настроенный Дивеев вынужден был со мною согласиться, когда я ему открыл свои видения, и дал мне увольнение.
Но независимо от вражьего на меня нападения, которое, казалось мне тогда, было попущено мне за нерадение к исполнению моих обетов, я считал себя, до некоторой степени, и в нравственном праве перед родителем и семьей оставить о них дальнейшее попечение: на руках у родителя оставались только две сестры – вдова Екатерина, уже сама стремившаяся в монастырь, и малолетняя Поленька, которая не могла очень обременить отца, тем более что еще когда я был на службе в Усмани, я отдал родителю все свои сбережения, и он пообещал мне, когда я того пожелаю, дать увольнительное свидетельство на поступление в монастырь.
Итак, рассуждал я: сестра Екатерина и я поступим в монастырь; Поленька останется с отцом, который может перебиться с своими деньгами; а брат Иван, уже сам поступивший на службу, не требует попечения; с течением же времени и он сможет занять мое место в заботах о старике отце и малолетней сестре.
Очень мне все это тогда казалось гладко и рассудительно…
XXXI
Упомянув о брате Иване, что он уже был на службе, я должен в хронологическом порядке своего повествования отступить несколько назад и рассказать, каким образом его поступление на службу состоялось. В неисповедимых путях Божественного Промысла младшему брату суждено было занять в моей жизни важное место, и сама судьба его, тесно с моей связанная, настолько интересна, что меня, я уверен, простит за это отступление тот, кто еще не бросил до сих пор чтения моей рукописи.
Когда я служил еще в земле Войска Донского и жил в Раздорской станице, в числе служащих поверенных был моим товарищем некто Федор Михайлович Абрамов, молодой человек прекрасной наружности, редко веселого характера, притом певец с хорошим голосом и чудесный гитарист. Это был мой первый и закадычный приятель, с которым мы, что называется, жили душа в душу. Но служить нам с ним по откупу вместе пришлось недолго, так как отец его определил на Кавказ, на службу к известному богачу – армянину Мирзоеву, который был самым крупным поставщиком спирта нашей Кавказской армии.
Эта пора на Кавказе была временем крупных нажив для ловких дельцов – золото в их карманы лилось рекою, в полном смысле слова без счета… Отъезжая на Кавказ, Абрамов, получив расчет у Рукавишникова, заехал ко мне проститься в Раздорскую, дав для того восемьдесят верст крюку, и прожил у меня три дня.
Эти три дня совместной жизни нас до того сблизили, что на прощание мы с ним обменялись шейными крестами, стали «крестовыми братьями» и дали друг другу клятву быть на всю жизнь, как братья родные. Он уехал в Темир-Хан-Шуру, где скоро приобрел доверие своего хозяина и по коммерции стал немалым человеком.
В добрый час, как потом оказалось, мы стали с ним крестовыми братьями…
Во время моей службы в Лебедяни родитель мой надумал съездить из Балашова в Воронеж на поклонение мощам святителя Митрофана и оттуда, на возвратном пути, привез ко мне младшего брата Ивана, которому в то время было шестнадцати лет. Родителю моему желательно было определить его писцом в питейную контору, но я, уверенный в том, что откупа доживают свой век, – к тому же и слухи такие ходили, – просил родителя, чтобы он лучше определил Ивана к какому-нибудь капиталисту-коммерсанту – хотя бы до времени и без платы, чтобы только пристроиться к крупному коммерческому делу. Родитель согласился с моим советом. Брату это было очень неприятно, но, делать нечего, пришлось подчиниться родительской воле… Когда они вернулись домой, к отцу моему зашел в гости некто Евреинов, наш бывший согражданин, а в это время житель города Темир-Хан-Шуры, где у него была торговля. За беседой выяснялось, что Евреинову нужно ехать в Москву и на Нижегородскую ярмарку за товаром, а жену, за которой он приехал, отправить из Балашова в Шуру.
– Да, вот, горе мое, – жаловался Евреинов, – отправить-то мне ее не с кем!
На это мой родитель предложил ему взять жене в спутники брата Ивана…
– Да уж, кстати, и взяли бы вы его к себе на службу, – прибавил мой родитель.
Евреинов согласился, и судьба брата была решена…
Таким образом, брат Иван очутился в одном городе с крестовым моим братом, Федором Михайловичем Абрамовым. Но друг друга они не только не знали, но и о взаимном существовании не имели никакого понятия. А, между тем, Абрамову суждено было оказать на строй жизни моего брата большое влияние… Встреча их и знакомство состоялись при следующих обстоятельствах.
Однажды Федор Михайлович шел из своей конторы через площадь, где торговые ряды. В то время в рядах у дверей каждого магазина стояли диваны, и на этих диванах отдыхали прохожие, больше, конечно, офицеры – по пути к главнокомандующему из своих частей или из военной канцелярии. Можно сказать, что диваны эти были местом, где они обычно собирались потолковать о военных или о своих домашних делах… В тот день, в который состоялась встреча моего брата с Абрамовым, у Абрамова по дороге из конторы к главнокомандующему князю Лорис-Меликову потухла сигара, и он, подойдя к лавке, у которой стоял мой брат, сел на диван, а Иван, заметив, что сигара потухла, подал ему спичку. Раскуривши сигару, Абрамов спросил брата:
– А ты, мальчик, откуда родом?
– Из Балашова, – ответил брат.
– Из Балашова? – переспросил Абрамов. – А не знаешь ты в Балашове Федора Афанасьевича Попова?
– Как не знать, когда он мне родной брат!
– Да как же ты попал сюда?… А брат твой где?
– Брат в монастырь ушел…
– Да верно ли ты это говоришь? Неужели Федор Афанасьевич тебе брат? – изумлялся Абрамов, не веря собственным ушам.
– Да смею ли я так нагло лгать? – уверял его брат.
– И письма у тебя от него есть? – допытывался Абрамов.
– Не далее, как вчера, я и от него, и от родителя получил письма…
– Ну, вот что, брат! Приходи ко мне завтра пораньше утром чай пить – я чай пью рано – да приноси с собой письмо брата: я тогда узнаю, тот ли это Попов, о котором мы говорим, а то – все бывает – может, это только его однофамилец. Абрамов дал свой адрес брату, наутро дело выяснилось, и встреча эта повела к удивительной, как потом оказалось, перемене судьбы моего брата. Добрый и верный друг Абрамов, обрадовавшись известиям обо мне и встрече с братом, велел ему написать немедленно письмо ко мне и к родителям: с просьбой разрешить брату переменить место и поступить на службу к другому хозяину по рекомендации Абрамова. Разрешение это нами было дано, и вскоре Иван поступил на службу к одному владимирскому коммерсанту, торговавшему в Шуре и нажившему во время военных действий против Шамиля крупное состояние. У этого купца была единственная дочь, которой было суждено впоследствии стать женою моего брата. Вот эта-то свадьба и развязала меня окончательно с миром… Но я забегаю вперед, а теперь перехожу к рассказу о моем вторичном поступлении в монастырь.
XXXII
Во время моей службы в Лебедяни я часто ходил к службам в Троицкий монастырь. Бывая в монастыре, я полюбил его запущенный тенистый сад, где в самой середине его чащи стоял нежилой деревянный сруб, покрытый тесом, с полом, но без печей и без рам. В этот сруб по осени сыпали яблоки. До того мне полюбилось это уединенное место, что, гуляя в саду в полном, конечно, одиночестве, я неоднократно молил Бога, чтобы Он благословил мне поселиться в этом срубе и в нем проводить отшельническую жизнь… Когда я решился уйти вторично из мира в монастырь, то, получив расчет от управляющего своего Ивана Андреевича Дивеева после истории с пролившимся спиртом, я пошел к игумену монастыря и просил его, чтобы он принял меня в свою общину жить в этом срубе под именем сторожа. У меня для окончательного поступления в монастырь не было увольнения от общества, а без него я мог жить в монастыре только по паспорту, под видом вольнонаемного. Об этом разрешении я молил игумена, со слезами великой жажды подвига, и получил его без особого затруднения.
– Господь тебя да благословит, – этими словами игумена положено было начало моему вступлению во второй раз в вожделенную для меня монастырскую ограду.
На новое жительство я перебрался в первых числах апреля, когда на дворе еще стояли порядочные заморозки, и, – Боже мой! – сколько я натерпелся тогда от холода в своем срубе, от крыс и мышей, бродивших в нем целыми вереницами.
От холоду я долго не мог ложиться спать, становился на молитву и усиленно клал земные поклоны. Едва согревшись, пробовал заснуть, но крысы и мыши начинали бегать по всему срубу, поднимали такую возню, что в ее разгаре не стеснялись прыгать мне на голову и бегать, как ошалелые, по всему телу. Кроме добровольного и вынужденного указанными обстоятельствами подвижничества, я нес еще послушание у свечного ящика и вскоре начал чувствовать такое изнеможение, и физическое, и нравственное, что вряд ли долго бы выдержал, а на изменение своего положения я мог рассчитывать или с окончательным поступлением в монастырь по получении увольнения, или с выходом из монастыря обратно в мир. Со слезами молил я Преблагословенную, чтобы Она помогла мне получить, как клад, не дававшееся увольнение, но получить его не мог – все не было на то ни Божией воли, ни родительской. О, какое тяжкое это было время!
Слава и благодарение Господу, не допустившему мне потерпеть выше моих сил!..
Через наш монастырь шли в Оптину пустынь монахини Тамбовского монастыря.
Это были духовные дочки старца Макария, несшие в Оптину для продажи мухояр[15] своего рукоделия, а главным образом шедшие за духовным советом к своему руководителю. С ними я послал к старцу извещение, что я опять вышел из мира, и просил объяснить ему, где поселился и что делаю… Наступили, между тем, теплые дни, – мне стало немного полегче.
А тут еще со мной произошел случай, очень меня утешивший и ободривший.
Однажды, после вечернего пения в храме (я пел на клиросе), я подошел к иконе Всех Скорбящих Радости и стал усердно молиться Преблагословенной об увольнении. Ко мне вдруг подошел неизвестный молодой человек и сказал:
– Ты просишь об увольнении. Не плачь – получишь!
Когда я опомнился от радостной неожиданности этих слов, молодого человека уже в храме не было. Таинственное это явление – человека, или Ангела, не ведаю, – сильно окрылило мой дух. Но радость надежды вскоре сменилась для меня новым испытанием.
Не успели уйти монахини, как приехала из Балашова сестра Екатерина вместе с двоюродным моим братом. Цель ее приезда была уговорить меня бросить монастырь и опять поступить на службу, так как им с отцом и младшей сестрой вскоре нечем будет кормиться. Тяжело было мне все это выслушивать: и жаль было семьи, но еще более было жаль себя, своих высших, но все недостижимых стремлений. Душа моя рвалась на части. И вот, в этом состоянии духа мы с сестрой отправились в Сезеневский женский монастырь поклониться гробнице Иоанна Затворника в надежде, что Господь смилостивится и укажет мне мой путь.
Когда мы с сестрой возвратились из Сезенева, вскоре пришли из Оптиной тамбовские монахини и передали, что батюшка Макарий требует меня немедленно к себе в Оптину для личного свидания. Я уговорил сестру остаться в Лебедяни, дождаться моего возвращения, а сам на другой же день с двоюродным братом вышел пешком в Оптину. Старец принял меня ласково и благословил до времени остаться в Оптиной, а в Лебедянский монастырь пока не возвращаться.
Двоюродный мой брат, таким образом, вернулся в Лебедянь один, и сестра, не достигши цели своей поездки, вернулась с ним обратно в Балашов с тяжелым чувством разочарования и в скорби на мое жестокосердие. А как было расстаться с моей мечтой, как ослушаться воли старца?!.. А мои семейные, думалось мне, проживут как-нибудь и без моей помощи, если Господу угоден путь, мною избранный…
XXXIII
И поселился я жить в Оптиной, которая мне после Лебедянского монастыря с его уже поврежденной духовной жизнью показалась – да и на самом деле была! – раем духовной жизни для человека, ищущего христианского совершенствования под руководством опытного старца. Таким руководителем испытанной мудрости и всяких христианских добродетелей был старец Макарий. Много за это время довелось мне услышать богомудрых его бесед об иноческой жизни, терпении, смирении, смиренномудрии, послушании, безмолвии и любви, но важнее всего был его личный пример и пример тех, которые проводили жизнь совершенствования во Христе Иисусе под неусыпным духовным надзором его беспримерной любви и попечительности. Что это был за человек!.. И любили же его те, которых Господь удостоил быть его духовными детьми!..
В описываемое мною время (шел 1853 год) в Оптинском скиту при старце Макарии состоял в числе послушников Ювеналий Половцов, впоследствии архиепископ Виленский. В то время он был совсем молодым человеком.
Происходил родом из известной дворянской фамилии, довольно богатой, и был он человек образованный, в цвете сил обширных своих дарований… Не забуду никогда одного незначительного по внешности, но по внутреннему смыслу полного глубокого значения случая, происшедшего на моих глазах в келье старца Макария. Сидели мы как-то в третьем часу дня втроем – я, отец Илларион и Ювеналий – и пили чай. Вдруг отворилась дверь из покоев старца, и сам батюшка из двери поклонился Ювеналию:
– Ювеналий, поди ко мне!
В руках Ювеналия было недопитое блюдечко – только раз хлебнуть… Ювеналий тем не менее и не подумал допить остаток чаю, поставил немедленно по зову старца блюдечко на стол и побежал к батюшке. Старец заметил, что чай Ювеналиев остался на блюдечке, и улыбнулся…
– Поди, – сказал он Ювеналию, – допей в блюдечке чай, а тогда и приходи!
Он так и исполнил.
Сколько в этом малом примере смирения и послушания в молодом человеке, рождением своим призванном руководить и повелевать, а не носить иго послушания у смиренного старца-монаха!.. Таково было обаяние личности и духа отца Макария. Мудрено ли, что на смену ему в этой временной жизни в Оптиной уже созревал не менее великий ему преемник – Амвросий!..
Как ни хорошо жилось мне в Оптиной, но меня вскоре с великой силой потянуло повидаться с другом моей юности Феодором Андреевичем Какирбашевым, о котором я уже упоминал в этой летописи земного моего странствования. В описываемое мною время он уже был иеродиаконом Площанской, что в Орловской губернии Севского уезда, пустыни. Десять лет прошло с тех пор, как я с ним в последний раз виделся, и мне непреодолимо захотелось увидеть этого искреннего друга и сомолитвенника времен детских и юношеских молитвенных наших подвигов. Открыл я свое желание старцу и получил его благословение. В Площанскую пустынь я отправился излюбленным своим способом, по образу, как говорится, пешего хождения.
Надо ли описывать радость нашей встречи с другом детства моего?… Отца Филарета я уже застал в сане иеромонаха, восходящим от силы в силу в меру возраста Христова. Совершенна была радость нашего свидания; да и могла ли она быть иной, когда основа нашей дружбы была одна – любовь о Христе Иисусе и общее стремление к жизни духа, к совершенствованию благодатью Божией в этой любви Божественной!.. Поселили меня, странника и пришельца, в одном коридоре с отцом Филаретом, и кельи наши были рядом – из двери в дверь.
Сходились мы вместе ежедневно за утренним и за вечерним чаем и жили, в полном смысле слова, душа в душу в боголюбезном общении духа и любви христианской. Что это было за незабвенное время, что это была за радость, миру невместимая!..
Увы! Непродолжительна была моя блаженная жизнь в Площанской пустыни: собиралась гроза военная Крымской кампании – пошли слухи об усиленном военном наборе, к которому мог быть привлечен и я, если бы дело дошло до созыва ополчения. С другой стороны, родитель мой с сестрами стал уже доходить до последней крайности и писал мне письма, в которых, жалуясь горько на свое положение, взывал ко мне, как к сыну, о поддержке. Младший брат мой еще не нашел тогда своей судьбы… И был я в великом борении духа. А между тем Севастопольская несчастная война была уже в полном разгаре… Дни моей духовной радости в Площанской пустыни быстро летели, и мне было незаметно, как промчался и канул в вечность год и наступил второй моего пребывания в этой святой и великой по духу обители…
Отца с сестрами мне за это время удалось устроить в Лебедяни при помощи моего благодетеля и боголюбца, Ивана Андреевича Дивеева, которому я писал о тяжелом положении моей семьи. Добрый Дивеев тотчас вызвал моего отца из Балашова, послав ему с сестрами денег на дорогу, и устроил его на двадцать пять рублей в месяц жалованья подвальным при пивном заводе. Жизнь в провинции тогда еще была дешевая, и двадцать пять рублей в месяц были достаточны для скромного прокормления целого семейства. На этот счет немного успокоилась душа моя. Но военная гроза, потрясая самые основы государства, била и меня, заставляя трепетно ожидать вызова в ополчение. Опасения были не напрасны, вскоре был разослан по всем обителям строгий указ, чтобы все проживающие в них по паспортам явились в свои общества. Надо было немедля собираться опять в мир… О, горе! О, томление духа!..
И вот в горести своей, я, как бы в тонком сне, совсем как наяву, имел видение: в моей келье находятся будто бы Государь Николай Павлович в мундире и Наследник престола Александр Николаевич в полном императорском одеянии.
Государь сидит такой грустный, а Наследник стоит перед ним… И вдруг Государь, обращаясь к своему царственному Сыну, сказал:
– Подойди ко мне!.. Война окончится замирением…
На этом я проснулся и тут же рассказал свой сон отцу Филарету.
– Смотри, – сказал он мне, – умрет наш Государь!
А на другие сутки дошло до нас известие, что умер Государь Николай Павлович и воцарился Александр II.
XXXIV
Обливаясь слезами, уходил я из Площанской пустыни обратно в мир. О, горе мое, о, мучение!.. На прощание зашли мы с другом моим в храм. Службы не было. Подошел я со слезами к чудотворной иконе Божией Матери и, когда помолился Ей, изнемогая от волновавших меня чувств, и подошел к Ней прикладываться, то вложил за ризу иконы приготовленную заранее записку, как бы прошение к Самой Преблагословенной, чтобы Она помогла мне избавиться от мира и сохранила меня во всех путях моей жизни. Затем я вслух сказал Ей, Владычице:
– Тебе, Матерь Бога моего, вверяю я душу свою и молю Тебя – исходатайствуй мне благословение на увольнение от мира. Сын Твой и Господь мой сказал, что грядущего к Нему Он не изгоняет вон, а я вот другой раз выхожу от Него обратно в мир… Где же обещание Его? Неужели грехи мои победили Его благость?… Помоги, Владычица!.. – и многими другими словами молился я Преблагословенной…
Обнявшись в последний раз с отцом Филаретом, пустился вновь в тот опостылевший мне мир, от которого так отбивался и к которому все еще оказывался прикованным какою-то тяжкою, точно заколдованною цепью…
Не могу выразить словами всю скорбь сердца моего, когда я возвращался в мир.
Я не рад был даже своему существованию… И пришла мне дорогою мысль зайти к моему старцу в Оптину пустынь. Помысел говорил во мне, что если я его теперь не увижу, то уже более никогда на этом свете его не увижу. Дорога мне была на Лебедянь, к родителю, и чтобы дойти до Оптиной, мне надо было сделать сто двадцать верст крюку. И я это сделал.
Когда увидел меня батюшка Макарий смущенного и в слезах, то стал утешать и сказал мне:
– Не скорби: в силах Господь утешить тебя и извести тебя из мира.
– Нет, батюшка, – отвечал я, – верно, грех моих ради, Господь отвергнул меня от звания иноческого.
– Не так говоришь, – сказал мне старец, – грядущего к Нему Он не изгоняет вон.
Моли Его благость и предайся святой Его воле, и Той сотворит. Верь мне – будешь ты монахом, но когда и в какое время, этого я не могу сказать тебе, но думаю, что со смертью родителя твоего откроется тебе путь к иночеству. А теперь укрепи себя надеждой на Бога и иди к родителю и, по мере нужды его с сиротами, твоими сестрами, усиль свою сыновнюю обязанность в обеспечение их сиротства и его старости. Будет время, что и сверх твоего ожидания откроется путь к желаемой цели. Теперь же иди и исполняй обязанности сына.
И когда я уходил из благословенного скита Оптиной, то – о, старец мой любвеобильный! – он пошел меня провожать и, поскольку я плакал дорогою, он остановился сам, остановил меня и сказал:
– Жаль мне тебя: ты идешь в мир – с тобой встретятся искушения. Но помни слова мои: не отчаивайся! Еще повторяю тебе: с тобою будут искушения – не отчаивайся!.. Сон, когда-то виденный тобой, что ты горел в огне разных цветов, и указывает на эти разного рода искушения. Но искушения породят в тебе ведение, а познание своих немощей обогатит тебя смирением, и ты будешь снисходительнее к другим. Повторяю тебе опять: будут с тобой искушения, но не отчаивайся, и что бы с тобой ни было, пиши ко мне всегда обо всем, а я, по силе возможности, буду отвечать тебе.
При этих словах старца я упал ему в ноги и, обливая их слезами, просил святых молитв его…
– Господь да благословит тебя, Господь да сохранит тебя. Господь да поможет тебе и да изведет Он тебя. Мир тебе. Не скорби: в силах Бог утешить тебя – придет время, будешь и монахом. Тогда вспомнишь слова мои. Уверяю тебя, что будешь ты монахом!
Это были последние слова блаженной памяти великого старца Макария, обращенные ко мне. Простившись с ним и приняв его последнее мне на земле целование, я, успокоенный в духе, пошел в Лебедянь к родителю и в мир предстоящих мне искушений.
Предчувствие меня не обмануло: старца Макария я на земле более не видел.
Соедини нас, Господи, во Царствии Твоем!
XXXV
Оригинально произошла моя встреча с родителем… Как я уже говорил, добрый Иван Андреевич Дивеев дал ему место подвального при пивном заводе. Это была с его стороны тайная милостыня, так как ему хорошо были известны все обстоятельства моей семейной жизни и стремления мои, которым он, как человек в высокой степени религиозный, сочувствовал от всей своей доброй и боголюбивой души. Не ограничившись тем, что он дал отцу место, Дивеев поместил его и всю семью на готовую квартиру с отоплением и освещением.
Жилось отцу сравнительно хорошо, но уже стал немощен и стар мой родитель – несостоятельность, в которую он впал в родном городе, где занимал в свое время не последнее место, почти сокрушила последний остаток его старческих сил.
Много пришлось перенести ему в Балашове перед выездом в Лебедянь: глухая вражда тайных врагов, которых он там приобрел на общественной службе, благодаря своему правдивому характеру, только ждала его несостоятельности, чтобы вырваться наружу, и много довелось испытать горького бедному отцу, пока не пришел к нему на помощь Дивеев. Так, видно, все ведется на белом свете: покуда в богатстве, потуда и в чести; а обеднял – всем опостылел и никому не стал ни мил, ни нужен…
Я не давал знать родителю о своем выходе из монастыря и о возвращении, так что приход мой для него был совершенной неожиданностью. Лет пять или шесть мы с ним не виделись – с того дня, как он был у меня с братом Иваном. Из семейных только сестра Екатерина видела меня сравнительно не так давно, когда приезжала уговаривать выйти из Лебедянского монастыря, но за эти два прошедших года, что она меня не видела, я уже успел сильно перемениться, особенно в послушническом одеянии, которое я носил и в котором возвращался из Площанской пустыни. Я был уверен, что меня даже не узнают, и – не ошибся.
В Лебедяни контора пивного завода, в котором служил родитель, стояла на так называемой Тяпкиной горе, а пивной завод и квартира отца располагались под этой горой. Надо же было случиться, что, когда я спускался под гору и приближался к отцовской квартире, меня нагнал родитель, возвращавшийся из конторы домой. С сумкой за плечами, в весьма убогой одежде, сожженной лучами солнца, запыленный, с посохом странника в руках, я поклонился отцу до земли и спросил:
– Не знаете ли вы, где бы мне здесь найти Афанасия Родионовича Попова, служащего по питейной части?