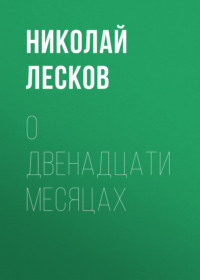полная версия
полная версияЛеди Макбет Мценского уезда (сборник)
– Я, – говорит, – покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это – мой племянник Федор Лямин.
Катерина Львовна их приняла.
Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.
– Чего ты? – спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.
– Ничего, – отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. – Думаю, сколь эти Ливны дивны, – договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.
– Ну, а как же теперь быть? – спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром. – Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.
– Отчего так прах, Сережа?
– Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?
– Неш с тебя, Сережа, мало будет?
– Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.
– Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?
– Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допрежь сего жили, – отвечал Сергей Филипыч. – А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.
– Да неш мне это, Сережечка, нужно?
– Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.
И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастию их конца-меры не будет.
Глава десятая
А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, – думает Катерина Львовна, – а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня… И добро бы человек, а то дитя, мальчик…»
На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все неро́дица была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.
– Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! – кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья. – Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?
А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.
Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.
Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.
– Потрудись, – скажет, – Катеринушка, – ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь; потрудись.
Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.
Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник Введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмотался.
Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.
– Что ты это читаешь, Федя? – спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.
– Житие, тетенька, читаю.
– Занятно?
– Очень, тетенька, занятно.
Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.
«А ведь что, – думалось Катерине Львовне, – ведь больной он; лекарство ему дают… мало ли что в болезни… Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил».
– Пора тебе, Федя, лекарства?
– Пожалуйте, тетенька, – отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: – очень занятно, тетенька, это о святых описывается.
– Ну читай, – проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.
– Надо окна велеть закрыть, – сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.
Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.
– Закрыли окна? – спросила его Катерина Львовна.
– Закрыли, – отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.
Водворилось молчание.
– Нонче всенощная не скоро кончится? – спросила Катерина Львовна.
– Праздник большой завтра: долго будут служить, – отвечал Сергей.
Опять вышла пауза.
– Сходить к Феде: он там один, – произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.
– Один? – спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.
– Один, – отвечала она ему шепотом, – а что?
И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.
Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампады спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:
– Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйте.
Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.
– Ты не заснул ли бы, Федя?
– Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.
– Чего тебе ее ждать?
– Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.
Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.
– Ну! – шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.
– Что? – спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.
– Он один.
Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.
– Пойдем, – порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.
Сергей быстро снял сапоги и спросил:
– Что ж взять?
– Ничего, – одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.
Глава одиннадцатая
Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна.
– Что ты, Федя?
– Ох, я, тетенька, чего-то испугался, – отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.
– Чего ж ты испугался?
– Да кто это с вами шел, тетенька?
– Где? Никто со мной, миленький, не шел.
– Никто?
Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.
– Это мне, верно, так показалось, – сказал он.
Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.
Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.
В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.
– Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал Богуто.
Катерина Львовна стояла молча.
– Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? – ласкался к ней племянник.
– Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю, – ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.
В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.
– Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? – вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик. – Идите сюда, тетенька: я боюсь, – еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.
– Чего боишься? – несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. – Ляг, – сказала она ему вслед за этим.
– Я, тетенька, не хочу.
– Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг, – повторила Катерина Львовна.
– Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.
– Нет, ты ложись, ложись, – проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.
В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного, босого Сергея.
Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:
– А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!
Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.
Минуты четыре в комнате было могильное молчание.
– Кончился, – прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привесть все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.
Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.
Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.
Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.
– Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! – бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.
– Где? – спросила она.
– Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! – закричал Сергей, – гремит, опять гремит.
Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.
– Дурак! вставай, дурак! – крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.
Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.
Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.
Глава двенадцатая
А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.
Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами, – все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки[2].
В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм Пресвятые Богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.
Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.
– А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, – заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу, – сказывают, – говорил он, – будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут…
– Это уж всем известно, – отвечал тулуп, крытый синей нанкой. – Ее нонче и в церкви, знать, не было.
– Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится.
– А ишь, у них вот светится, – заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями.
– Глянь-ка в щелочку, что там делают? – цыкнули несколько голосов.
Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:
– Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!
И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.
Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.
– Видел сам, собственными моими глазами видел, – свидетельствовал над мертвым Федею машинист, – младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.
Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.
В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о Страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:
– Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.
– Для чего же? – спрашивали ее.
– Для него, – отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.
Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.
Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.
Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.
Глава тринадцатая
Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».
Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.
Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей: она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.
Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменый Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.
Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастием.
Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.
Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:
– Ты замест того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.
– Четвертачок всего, Сереженька, я дала, – оправдывалась Катерина Львовна.
– А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.
– За то же, Сережа, видались.
– Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.
– А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.
– Глупости все это, – отвечал Сергей.
Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.
Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партиею, следовавшею в Сибирь с московского тракта.
В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна – солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая – семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.
Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.
– Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет, – говорили шутя арестанты в один голос.
Но Сонетка была совсем в другом роде.
Об этой говорили:
– Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.
Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.
Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.
Глава четырнадцатая
С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

В. И. Якоби. Привал арестантов
Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.
– Ишь жируют, – буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился.
Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.
– Кто это? – спросил вполголоса Сергей.
– А ты чего тут? с кем ты это?
Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.
Из мужской камеры раздался дружный хохот.
– Злодей! – прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.
Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:
– Цыц!
Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.
Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.
– Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку, – побудила ее утром солдатка Фиона.
– А, так это ты?..
– Отдай, пожалуйста!
– А ты зачем разлучаешь?
– Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?