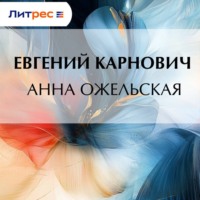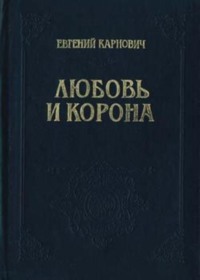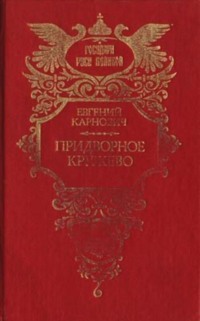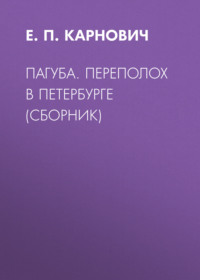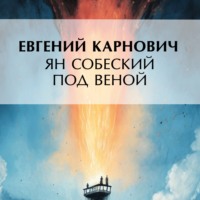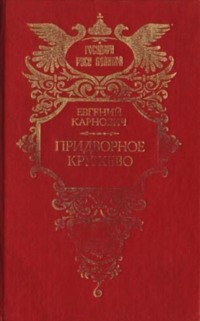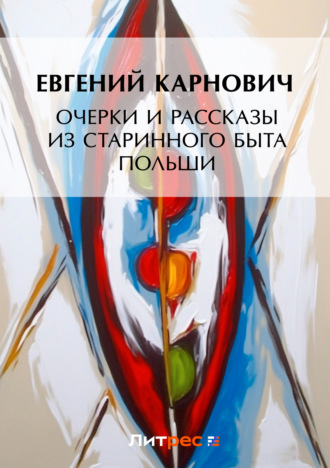 полная версия
полная версияОчерки и рассказы из старинного быта Польши
– Ну тем лучше, – заметил ясновельможный; – а саблей-то ты как?
– Отец учил меня этому, – бойко сказал Вацлав и смело посмотрел на шляхтичей, стоявших около ясновельможного хозяина.
– Хорошо, – перебил хозяин, – посмотрим много ли ты успел в этом, – и обратившись к Вацлаву велел ему идти во двор и там по очереди помериться на саблях с каждым из шляхтичей, живших в доме пана.
Конец испытания был в пользу новоприбывшего. Довольный хозяин снова обратился к шляхтичу с вопросом:
– Ну, а понимаешь ли ты что-нибудь в хозяйстве?
– Кое к чему присмотрелся у моего отца, – отвечал Вацлав.
Последний свой вопрос заключил ясновельможный следующими словами:
– Ну, а как религия? Хороший ли ты католик?..
И получив на это утвердительный ответ, пан объявил Вацлаву, что он принимает его к себе в службу.
В ту пору в доме каждого польского пана живало много молодых дворян. Они по приказанию пана развозили письма, ездили за ним верхом во время его поездок на охоту, в гости или на сеймик; спали по очереди в комнате перед панскою спальней совсем одетые, на случай каких-либо особых приказаний пана в ночную пору.
За молодыми шляхтичами, жившими таким образом в панском доме, строго наблюдали, чтоб они не баловались. Несмотря на попойки, которыми так славилась старинная Польша, пить шляхтичу, не имевшему тридцати лет, было стыдно, и потому молодой шляхте, служившей при панских дворах, строго запрещалось пить вино; им не позволялось также играть в карты, и пойманного в карточной игре или били плетью, или заставляли, при всей молодёжи, съесть рубленые карты, приправленные простым соусом, называемым у поляков бигосом. Молодым шляхтичам, служившим в панском доме, не позволено было ни под каким предлогом входить на женскую половину; однако в большие праздники и в именины хозяина, они имели право танцевать со всеми дамами, приезжавшими в гости к их пану.
О науках такая молодёжь вовсе не думала; напротив, если кто-нибудь из среды её принимался читать книги, то над тем беспрестанно подсмеивались, как над монахом, и не давали ему покоя, и напротив тот, кто показывал удаль, кто умел ловко биться на саблях, метко стрелять из пистолета и смело управлять бешеным конём, тот приобретал и дружбу, и уважение всех своих сотоварищей.
Между тем, как Вацлав жил в доме ясновельможного, Юзя росла и хорошела: её светло-голубые глазки делались всё темнее и темнее, её русые волосы, как шёлковые пряди, окаймляли свеженькое личико, на котором белизна, казалось, спорила с румянцем. Подраставшая Юзя, по обычаю всех польских девиц того времени, училась весьма мало; она вытвердила на память несколько молитв, научилась читать не слишком бегло, писать не слишком красиво, обучилась она также и кое-каким незамысловатым, впрочем, рукоделиям; но большую часть года она забавлялась любимой своей кошечкой и ухаживала за цветами, которые она разводила в небольшом садике, бывшем перед домом.
Юзе было лет около двенадцати, когда однажды она с отцом и матерью сидела на крыльце дома. День вечерел, солнце уходило за лес, золотя его вершины; в воздухе стояла неподвижная тишина, и только порою слышался острый крик стрижа, быстро поднимавшегося к небу. Вдруг пан Тадеуш, заслонив глаза рукою, чтоб защитить их от красноватых лучей погасавшего солнца, сказал жене своей:
– Посмотри, Малгося, никак к нам гости.
Малгожата, прищурив свои узенькие от излишней полноты глаза, посматривала внимательно на дорогу, по которой, как будто лёгкий дымок, поднималась золотистая пыль, пронизываемая последними лучами солнца.
– Да, это к нам, – отвечала утвердительным голосом Малгожата.
Действительно, через несколько минут перед домом пана Тадеуша стояла уже так называемая каламашка, то есть небольшая тележка, и из неё вылезал старый шляхтич, пан Криштоф, и в то же время с лихого вороного коня ловко и проворно соскочил сын его Вацлав.
Четыре года, проведённых Вацлавом вдалеке от родительского дома, мало изменили его; правда, он возмужал, окреп и белокурый ус стал сильнее пробиваться над губами, полными свежести.
После обычных приветствий пошли расспросы о том, как поживает пан Вацлав; из этих расспросов оказалось, что ясновельможный, к которому он поступил в услужение, и которому, как мы сказали, он приходился каким-то дальним родственником по бабке, если ещё не по прабабке, был вовсе не из числа магнатов того времени, спесиво посматривавших на бедную шляхту и оскорблявших её на каждом шагу своею надменностью, потому только, что она порою терпеливо переносила эти оскорбления. Покровитель Вацлава был человек добрый и сострадательный; он не хотел пользоваться тем, что прихоть судьбы поставила одного человека в зависимость от другого.
Приезжие гости остались ночевать; поэтому весь вечер, а потом и весь следующий день прошёл незаметно в доме пана Тадеуша. Вацлав рассказывал хозяину и хозяйке о Вильне и о Варшаве, в которых они никогда не бывали и на которые взглянуть они крепко желали. Рассказывал им также Вацлав и о тех боевых стычках, в которых ему уже привелось побывать, говорил он им и о короле, и о сейме, и мало ли ещё о чем толковал Вацлав хозяину и хозяйке, слушавшим его рассказы с жадным любопытством деревенских жителей.
На другой день, когда, как говорится, спал жар, Вацлав собрался с своим отцом в дорогу. Вороной конь Вацлава стоял у крыльца, выбивая копытами землю.
Вацлав, прощаясь с хозяевами, провожавшими гостей, вышел на крыльцо. Он был, что называется, настоящий молодец; а старинный польский наряд придавал ему ещё более удали. На Вацлаве был жупан из кармазинного сукна, застёгнутый у шеи позолоченными запонками, синий суконный кунтуш с шестью большими пуговицами, выточенными из кровавика. И кунтуш, висевший за плечами на толстом шёлковом шнуре, и жупан были обшиты серебряными галунами. Кривая сабля висела с боку; голову Вацлава покрывала надетая ухарски набекрень небольшая шапка из голубого бархата, с околышком из крымской овчины.
Радушные хозяева провожали своих гостей, а пан Тадеуш с большим кубком венгерского приставал к Вацлаву, прося его выпить на дорогу.
– Не пора мне ещё пить, – отвечал Вацлав хозяину, – ещё молод я для этого, но так и быть выпью этот кубок, если только ты, пан, позволишь мне его выпить за здоровье моей невесты; – и при этих словах Вацлав показал на Юзю, которая тоже вышла на крыльцо провожать гостя.
Все засмеялись.
– Хорошо, хорошо, пан Вацлав, – говорил пан Тадеуш, подавая ему кубок; – пей за здоровье невесты; только смотри не позабудь её; ведь верно и в Вильне и в Варшаве найдётся много паненок, которые будут и попригоже и побогаче моей Юзи.
– Увидишь, пан, – отвечал Вацлав, – что шляхтич – господин своему слову; – и затем, пожелав здоровья своей будущей невесте, Вацлав разом осушил кубок, ловко вспрыгнул на коня, и держа одною рукою повод, а другою поправляя шапку, сказал смеясь Юзе.
– Смотри же Юзя, – помни своего жениха, через пять лет я за тобой приеду! – и пришпорив коня, он быстро поскакал по дороге. За ним в своей каламашке покатил и пан Криштоф. Долго смотрели хозяева вслед отъехавших гостей, от души желая им и здоровья и счастья.
Пошёл опять год за годом. Старик Криштоф часто навещал своего соседа и с подробностями рассказывал ему о своём сыне, который сделался первым любимцем богатого магната. Между тем Юзя подросла и сделалась прехорошенькой невестой; жизнь её шла по-прежнему, только меньше она забавлялась кошкой, но зато больше цветов разводила она каждое лето. Думала ли она о Вацлаве, или нет, – Бог её знает; только Вацлав не забывал, как видно, своей невесты, потому что он сдержал своё слово. Едва, как говорят поэты, наступила для Юзи семнадцатая весна, как Вацлав опять со своим отцом приехал в дом Тадеуша, чтоб выполнить своё слово. Мы не станем описывать красоты Юзи, не потому что у всякого есть свой вкус и что следовательно Юзя, пожалуй чего доброго, иному и не понравится, но потому, что описание наше не представит вполне той кротости и той привлекательности, которыми отличалась Юзя. Мы расскажем только о том, как окончательно сладилась свадьба Вацлава.
В первый день приезда Вацлава, отец его, после ужина, объявил отцу Юзи, что сын его просит руки его дочери; и когда отцы тут же согласились между собою, то жених, по стародавнему польскому обычаю, упал в ноги своей невесте.
От помолвки и до свадьбы срок в прежнее время был недолог; но между разными хлопотами, которыми обыкновенно бывают озабочены родители в это время, пана Тадеуша занимала в особенности забота о том, где бы достать для Юзиной свадьбы самого лучшего мёду.
В Литве, где жил пан Тадеуш, вёлся обычай, что если основывалось какое-нибудь новое иезуитское учреждение: кляштор ли, больница ли, училище ли, то отцами-иезуитами назначался торжественный день для открытия и для освящения нового учреждения. К этому дню привозили из Полоцка: бочку батори́на, то есть мёда, приготовленного иезуитами в то время, когда был заложен в Полоцке королём Стефаном Баторием иезуитский коллегиум. Огромная бочка этого мёда висела, в месте своего рождения, на толстых железных цепях, тщательно сохраняемая в монастырском подвале. Привозимая же из Полоцка бочка, налитая этим мёдом, была краеугольным камнем всех питейных запасов нового иезуитского учреждения и поэтому она принималась отцами-иезуитами с особым, подобавшим ей почётом. Привезённый из Полоцка мёд употреблялся первый раз при открытии нового иезуитского учреждения, и потом при праздновании каждой его годовщины; кроме того мёд этот употреблялся в именины ордена, то есть в день св. Игнатия Лойолы, и в известных, важных случаях выдавали его не в слишком большом количестве особенным благотворителям иезуитского учреждения, а также и первым его основателям и их нисходящим потомкам; последним впрочем только тогда, когда они были больны лихорадкой. Взятое количество мёда тотчас же доливалось самым старейшим мёдом, бывшим в подвалах отцов-иезуитов.
Запасшись, при содействии своих покровителей, этою драгоценностью, пан Тадеуш уже не видел никакого препятствия в празднованию брака Юзи, и поэтому послал, как это водилось в прежнее время, даже в самые далёкие места запрашивать на свадьбу своей дочери всех, кто приходился ему каким бы то ни было родственником.
Юзя полюбила Вацлава. Нужно ли говорить о том, что каждая девушка, покуда не наступила минута брака, ждёт её с нетерпением; она представляет в своём воображении счастливую жизнь замужества, важность хозяйки дома, свободу женщины, вышедшей из-под той зависимости, в которой она находилась прежде, будучи девушкой. Она беспрестанно занимается хлопотами около приданого, и в этих хлопотах находит для себя и развлечение и забаву; её воображение полно самых сладких грёз, среди которых ей видится она сама в венке из белых цветов.
Но когда наступает пора расставания с родимой кровлей, тогда сердце берёт верх над воображением. В сердце девушки возникают дорогие и милые для неё воспоминания и она, как бы навсегда расставаясь с ними, чувствует какую-то невольную, неодолимую грусть. Ей делается жаль своей скромной горенки и любимого уголка в родительском доме, и выращенных её заботою цветов; с печалью вспоминает она о ласках отца и матери; ей становится жаль и добрых подруг и верных слуг; всё прошлое вдруг оживает перед нею в каком-то обольстительном свете, и она, со слезами на опущенных ресницах, стыдливо подаёт жениху свою дрожащую руку.
Накануне Юзиной свадьбы справили в доме пана Тадеуша по старопольскому обычаю девичник. Вечером в этот день, в ярко освещённой комнате, подруги невесты уселись в тесный кружок готовить для неё венок из розмаринов. Мужчины были в этот вечер на половине, отведённой для жениха, и пили венгерское. К ужину собрались все гости в одну комнату, а в числе их был и знатный пан, покровительствовавший Вацлаву и полюбивший его, как сына. Приехала также на Юзину свадьбу и вдова одного богача-воеводы, считавшаяся какой-то троюродной тёткой жене пана Тадеуша.
Когда вошёл почётный гость, то невеста, по старому обычаю, низко поклонилась ему, а он поцеловал её в голову и благословил её. Жених, в свою очередь, поклонился в ноги вошедшей знатной пани и получил от неё позволение поцеловать её руку.
После продолжительного ужина, окончившегося одного рано, потому что за ужин принялись спозаранку, – начались танцы; жених в этот вечер не имел нрава не только говорить с своей невестой, но и не смел даже подходить к ней.
Поздно разъехались и разошлись гости по отведённым им хатам и комнатам.
Наступило ясное летнее утро. После тревожной ночи Юзя на рассвете крепко уснула; крепко также спали все гости; не спала только пани Малгожата: грустно ей было при мысли, что она должна будет расстаться с своей Юзей, и она едва сдерживала навёртывавшиеся у неё на глазах слёзы.
Тихо, на цыпочках, вошла пани Малгожата в комнату своей дочери. Всё было просто в этой комнате: белые стены, чистый пол, ситцевый полог над кроватью, а на стене образ Богоматери, окружённый венком из свежих роз; на окнах расставлены были горшки цветов.
Мать стала на колени перед образом, которым её самую благословил отец перед выходом её в замужество и который потом она повесила над колыбелью Юзи.
Едва пани Малгожата кончила свою усердную молитву, как целый рой весёлых девушек влетел в комнату Юзи; это были её подруги. Они держали в руках корзины, полные цветов, на которых ещё висели светлые крупные капли утренней росы, и вся комната наполнилась свежим запахом роз, сирени и жасмина. Девушки звонким смехом разбудили Юзю и поздравили её с наступившим днём брака.
Между тем на дворе, несмотря на раннее утро, раздавался стук экипажей и слышалось хлопанье бичей; в ту нору, по старинному обычаю, и хозяева и гости вставали слишком рано.
Магнат и знатная пани, удостоившие своим посещением свадьбу Вацлава и Юзи, хотели, чтоб обряд венчания был совершен с соблюдением всех старинных польских обычаев. Поэтому, когда стали одевать молодую к венцу, то её посреди комнаты посадили на кадку с опарой, покрытую богатым ковром и соболем, привезёнными ясновельможным паном в подарок молодой. Дружки расплели Юзе косу и надели на неё белое платье, украшенное букетами цветов и кружевами. У Юзи не было ни дорогих камней, ни золотых безделушек; но их, впрочем, по тогдашнему польскому обычаю и не надевали даже на самую богатую невесту, так как, если б она надела их, то это было бы знаком ожидающего её несчастья и горя. Точно также не надевали на невесту, по тому же самому поверию, ничего красного, ни чёрного.
Платья для молодой и для четырёх её дружек доставила пани-воеводова в подарок. В ту пору это был обычай, ни мало не считавшийся оскорбительным.
Между тем все гости собрались в самой большой комнате дома; двери отворились и две прехорошеньких девочки, кузинки невесты, внесли на подносах маленькие букеты из мирта и розмарина. Они бойко подбегали к холостым мужчинам, пришпиливали к их кунтушам эти букеты и желали им жениться. Некоторые, принимая из ручек хорошеньких подросточков букеты вероятно думали про себя: "подожди, плутовка, я женюсь тогда, когда ты сама вырастешь, – ждать недолго, годика три, четыре!" Раздав холостякам букеты, резвушки побежали опять в комнату невесты.
Спустя несколько времени растворились обе половинки дверей и вошла молодая, в сопровождении своих двух близких родственников; за нею её кузинки несли на блюде миртовый венок. Мать надела этот венок на Юзю, и в это время у Юзи слёзы, как брильянты, посыпались из опущенных вниз голубых глаз; после благословения Юзи отцом, мать положила ей за пазуху венгерский червонец с изображением Богородицы. Юзя упала в ноги отцу, жених сделал тоже.
– Да благословит вас Бог! – сказали разом все голоса, и следом за молодыми вышли на крыльцо, чтоб отправиться в костёл.
По принятому тогда обычаю, дамы поехали в экипажах, мужчины верхом; в костёле и жених и невеста стояли отдельно. Из костёла молодые вернулись уже вместе, сидя рядом в карете. Обед ждал их. Жениха и невесту посадили на первое место и начался весёлый обед.
После обеда, пожилые гости принялись за венгерское, а молодёжь за танцы. Началось, по обыкновению, с польского; почтенный гость взял молодую, прошёлся с нею и потом передал её руку Вацлаву. В это время один из родственников Юзи, препожилой адвокат, обучавшийся сперва у иезуитов, выступил с поздравительною речью; вся напыщенная и восторженная речь адвоката, в которой перечислялось родство жениха и невесты с наиболее знаменитыми фамилиями в Литве и Польше, и превозносились добродетели родителей брачной четы – была перемешена латинскими фразами и изречениями вроде следующих: uxor bona corona capitis, т. е. добрая жена есть венец главы и пр.
После продолжительной речи, которую все гости слушали с желанием, чтоб она поскорее покончилась, начались беспрерывные танцы и между ними весёлая мазурка, в таком виде, в каком танцевали её в старинной Польше.
Каждый кавалер, без различия возраста, брал ближайшую к нему даму и становился в общий круг; девицы нежно брались за платьице и выставляли вперёд свои маленькие ножки. Раздались первые звуки мазурки и несколько пар разом ринулось в середину круга. Задрожала комната от притоптывания каблуками, и быстро понеслись девушки, извиваясь, как змейки, около молодцеватых кавалеров. Мазурка привела в восторг всех, и даже самые дряхлые старики, стоя на месте, били ногами в такт и от удовольствия хлопали молодёжи в ладоши, в знак поощрения.
Долго длились танцы; за ними начался ужин. За ужином, как и за обедом, дамы уселись по одной, а мужчины по другой стороне стола. Весёлый говор и смех не прекращались ни на минуту. Во время ужина пили опять за здоровье молодых и втихомолку от молодых желали побывать у них на крестинах.
После ужина, в полночь, молодая ушла незаметно из комнаты, где были гости; а час спустя проводили к ней в спальню с музыкой и молодого. В комнате перед спальней был накрыт стол, а на нём стояли сласти. Мужчины с рюмками в руках пожелали молодым здоровья…
Всё это весьма часто бывало в прежнее время, которое многие безусловно хвалят и за бывшую в ту пору скромность, и за царствовавшее тогда строгое благочестие; но которое однако, как заметил один польский писатель, "всё-таки не было так скромно и так благочестиво, как твердят о нём молодым старые люди". В ту пору, по словам этого писателя, крепко пили, ссорились, дрались, венчались для приданого или для протекции, и весьма часто разводились вскоре после брака.
Быть может, что и это несомненная правда; но мы также знаем и то, что Вацлав и Юзя обвенчались без всякого расчёта, что на их свадьбе никто ни с кем не поссорился и не подрался, хотя и надобно сказать правду, что вследствие мёда и венгерского многие гости не могли привстать с своих мест. Знаем также и то, что Вацлав и Юзя прожили дружно и счастливо слишком тридцать лет, и что они оставили после себя целую дюжину детей, – дочерей похожих на мать, а сыновей – на отца.
Четыре мешка
На Подоле ещё доныне среди простонародья слышатся в песнях и в преданиях рассказы о старо́сте каневском [8], ясновельможном пане Николае Потоцком; много также сохраняется в Польше и в Литве разных анекдотов и повествований о его странностях и причудах; а один из его современников, Карпинский, описал подробно всю жизнь старо́сты каневского. Если верить книге Карпинского, старо́ста каневский был каким-то извергом, потому что он, по словам своего биографа, собственною рукою убил, по крайней мере, сорок человек. Впрочем, такие рассказы не могут заслуживать доверия. Карпинский, как известно, был противником Потоцкого в политических стремлениях; он принадлежал к партии короля Станислава Понятовского, с которым так настойчиво боролся Потоцкий. Притом и народные предания, рассказывая о многих проделках ясновельможного пана, не упоминают о таких жестокостях, но представляют Потоцкого только каким-то чудаком и забиякой, каким он и был на самом деле.
Много можно привести рассказов о странностях своевольного магната, между прочим о том, как он жил среди базилианских монахов в Почаеве, как он лечил их, как он там каялся и сокрушался сердцем о своих грехах. Тело Потоцкого, умершего 15 июля 1782 года, доныне ещё лежит в том же монастыре.
Любимым местопребыванием пана Николая Потоцкого было наследственное его местечко Бучач на Подоле. Местечко это расположено среди самых живописных окрестностей, на реке Стрыпе. Здесь, по низменным берегам извилистой реки, текущей между холмами, виднеются среди зелени пирамидальных тополей несколько костёлов, базилианский монастырь, ратуша и сотни полторы небольших домиков, рассеянных по холмам и по долине.
В стороне, над местечком, на высокой горе, поросшей плотным кустарником, стоят ещё и теперь развалины огромного и некогда великолепного замка: здесь жил старо́ста каневский. Невдалеке от местечка находился ещё в былое время другой небольшой замок, в котором, среди тоски и горя, провела свою жизнь жена старо́сты, Мария Анна, славившаяся в околотке красотою и добротою сердца. В то время, когда замок Потоцкого оглашался шумными пирами, весёлыми криками и нечестивыми потехами, в жилище его жены слышались только тихие молитвы.
Весело, правда на свой лад, жил старо́ста в Бучаче; однако и ему один раз, по милости четырёх мешков, привелось испытать такое неожиданное, страшное горе, о каком он, конечно, никогда не мог даже и помыслить.
Дело началось, для того времени, очень просто.
Недалеко от местечка, в котором пировал и своевольничал Потоцкий, стояла на большой проезжей дороге корчма. Был жаркий летний день; солнце палило удушливо; в неподвижном воздухе было так тихо, что золотистая рожь, дозревавшая по окраинам большой дороги, не колыхалась даже ни одним колосом. Проезжих в такой жар не было; все бежали от солнечного припёка в прохладную тень и укрывались там, ожидая, когда спадёт дневной жар, чтобы отправиться дальше в дорогу. Поэтому, в растворённые настежь ворота корчмы никто не въезжал в это время.
На дворе корчмы стоял конь, привязанный к деревянной колоде; а на столбе, близ колоды, были развешаны седло, подпруга, уздечка, пара пистолетов и сабля. По всему этому видно было, что в корчму заехал освежиться какой-нибудь странствовавший шляхтич.
Действительно, в одной из комнат корчмы – молодой, высокий и плечистый мужчина добывал из дорожного вьюка разные мелкие принадлежности, необходимые в пути. Пересмотрев в порядке ли всё имущество, шляхтич хотел прилечь отдохнуть, как вдруг на дороге, а вслед затем и под самыми окнами корчмы, послышались конский топот и шум въехавшего в ворота тяжёлого экипажа.
Известно, что содержатели корчм всегда радуются заезжим гостям. Но на этот раз Ицко, содержатель прибучачской корчмы, сунувшийся было в окошко, отскочил от него, как ошпаренный, и бледный, трясясь всем телом, едва мог вскрикнуть: "ай, вай! старо́стес!" С этими словами он опрометью кинулся из корчмы.
В сенях между тем раздалось множество голосов и послышались грозные крики на растерявшегося Ицку.
Шляхтич, услышав шум, раздумал уже ложиться отдыхать и в ожидании вновь прибывших путников уселся на лавке подле стола. Вдруг дверь широко распахнулась. Ицко показался на пороге; одной рукой он держался за дверную скобку, в другой руке была у него ермолка, которую он, низко нагибаясь всем телом, опускал до самого полу, в знак своего уважения к шедшему следом за ним путешественнику.
Вошедший за Ицкой мужчина был человек уже пожилой, высокого роста; голова его была выбрита и только на макушке висел длинный чуб; длинные усы закрывали ему рот, глаза смотрели сурово. Лоб и толстый подбородок были покрыты множеством глубоких морщин. На нём был надет суконный кунтуш фиолетового цвета, доходивший до колен, с рукавами наотлёт; под кунтушем был атласный жупан светло-небесного цвета, застёгнутый под шеей брильянтовой запонкой. Опоясан он был литым серебряным поясом, с золотой бахромой напереди; у пояса, на шёлковой тесьме, была привешена кривая сабля с дорогой рукоятью.
Когда вошёл новый гость шляхтич встал с места, сделал несколько шагов вперёд и отвесил вошедшему пану низкий поклон.
– Откуда и зачем едешь один? – спросил грозно важный пан.
– Служил я при дворе покойного каштеляна Коссаковского, – отвечал почтительно шляхтич.
– Так-то… – проговорил протяжно пан.
– Да, ясновельможный, – перебил шляхтич, – я служил у разных панов, и служил у них и верно и честно.
– Порядочный слуга не трёт углов по корчмам! – крикнул сердито старо́ста.
– Я делаю это только во время дороги, – пробормотал оробелый шляхтич, – видит Бог, не иначе, ясновельможный пан.
– Знаю, знаю, и камень прирастает к месту, а ваш брат любит шляться с места на место.
– Что ж делать, ясновельможный! Человек ищет себе хлеба, и потому делает то что принуждён делать.
– Да кто ж тебя-то, брат, принуждает? Ведь ты сам говорил, что у тебя было место?
– Да; но Бог скоро прибрал в свою славу нашего пана; всем нам пришлось промышлять о себе, и теперь я ищу куска хлеба.