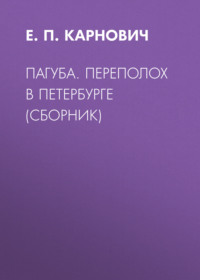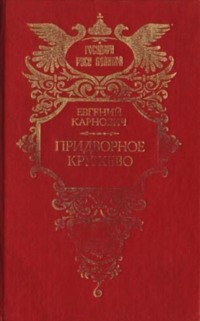полная версия
полная версияОчерки и рассказы из старинного быта Польши
Самолюбие слишком сильно заговорило в сердце шляхтича, и он захотел, если не окончательно сделаться независимым владетелем, то быть по крайней мере другом великого государя, на которого вся Европа смотрела тогда с каким-то благоговением. Пан Лада решился принять предложение короля и собрав всю свиту из самых важных и молодцеватых шляхтичей отправился в столицу Пруссии.
Вести об этом донеслись в скором времени в Варшаву до короля Станислава Августа, который в это время приготовлялся к поездке в Канев для свидания с императрицею Екатериною. Услышав любопытные подробности о пане Ладе, а также и о его победах, Станислав Август призадумался, и в заседании тайного совета предлагал ободрить смелого шляхтича, и даже помочь ему денежными средствами и военными снарядами. Говорили даже, будто бы Понятовский собственноручно писал к пану Ладе, изъявляя желание увидеть его и приобрести его дружбу. Съездить в Ладов с королевскими предложениями было поручено молодым ветреникам того времени, потерявшим при весёлом дворе Станислава Августа всякую энергию. Королевские посланцы обыкновенно ездили медленно, в тяжёлых, спокойных каретах; они беспрестанно останавливались для ночлегов, и в каждом городе или местечке наряжались как куклы, пудрились и ухаживали за красавицами. Вследствие этого, королевский посланец приехал в Ладов, спустя уже неделю после отъезда пана.
Ладовский замок был пуст, и только, как свидетели воинских подвигов пана Лады, оставались следы укреплений. Запоздавший панич увидел свою оплошность и погнался было за паном Ладой в Пруссию, желая передать ему королевское послание, но и тут ему не посчастливилось: пруссаки заподозрили его в шпионстве, схватили и засадили в крепость Шпандау, где он отсидел довольно долго в ожидании свободы.
Съезд в Каневе, имевший, как известно, целью ослабить могущество Фридриха Великого, устраивался с большою таинственностью. Но блестящая свита придворных и рой королевских любовниц разглашали все дипломатические тайны, так что король прусский знал обо всём и успевал принимать меры, а потому едва только он заслышал, что в Варшаве думают сделать из смелого шляхтича Лады орудие против его планов, как предупредил Понятовского и сумел склонить смельчака на свою сторону.
Между тем пан Лада совершал торжественный путь; мелкие почести усыпляли его, и любопытные толпы народа сбирались на станциях, чтобы взглянуть на пана Ладу, как на какое-то чудовище. Генерал, сопутствовавший пану, торопил его с особенным усердием, уверяя, что король нетерпеливо ждёт своего знаменитого гостя, а между тем, тотчас по проезде пана Лады, опускались шлагбаумы и пресекались все сообщения с Польшей. После восьмидневного путешествия, владетель Ладова увидел резиденцию своего нового друга. У берлинской заставы ждала его королевская карета, а навстречу ему был послан королевский адъютант с разными любезностями. Гостю Фридриха Великого было отведено помещение в роскошных покоях королевского дворца; здесь он отдохнул после дороги и на другой день отправился в Потсдам, где в ту пору находился Фридрих. Прибыв в Потсдам, он окончательно смутился и начал уже раскаиваться в своём приезде, предчувствуя, что ему трудно будет устоять против искушений.
Предчувствия пана Лады сбылись на самом деле. Фридрих отлично понял всю суетность шляхтича и сообразил, что с таким простаком легко совладать при пышном и хитром дворе.
Король встретил своего гостя разными любезностями, и ласки Фридриха окончательно покорили сердце пана Лады, который тотчас же объявил, что считает за счастье знакомство с полководцем, занимающим первое место после Юлия Цезаря.
Веселясь с немцами на разные способы, добродушный шляхтич легко сблизился с ними, и спустя несколько недель после своего приезда принял от короля титул графа и орден Чёрного Орла. Когда же ему предложили на выбор государство, к которому он желает присоединиться, то пан Лада объявил решительно, что не хочет отделяться от своей родины. Но король уже достиг своей цели: он приобрёл себе сочувствие в человеке, имевшем тогда сильное влияние на своих соотечественников, и тем самым искусно разрушил одно из предположений каневского съезда.
Возвратившись в своё государство, шляхтич немедленно перенёс межевые столбы к новому руслу ручья, и таким образом, присоединившись опять к Польше, отказался навсегда от своей политической независимости. Но тяжело было пану Ладе, после пиршеств и побед, сжиться опять с деревенским затишьем. Он никогда никому не показывал ни графского диплома, ни полученного ордена, а шляхта, видя смирение пана Лады перед пруссаками, терялась в догадках и делала различные, иногда даже оскорбительные для него предположения.
Всё это мучило пана Ладу, и когда кто-нибудь напоминал ему о его государстве, он видимо терял весёлое расположение духа.
Прошло ещё несколько лет среди этой томительной жизни, началась борьба Речи Посполитой с её соседями, и вскоре пан Лада сложил свою седую голову.
Неправедное наследство
Польский король Михаил Вишневецкий в молодости своей, когда он был ещё частным человеком, испытывал нужду, близкую в нищете. Один из витебских помещиков Цехановецкий полюбил молодого князя, и не предвидя его будущей судьбы, помогал ему, как бы он помогал самому близкому своему родственнику. При многих своих слабостях князь Вишневецкий отличался однако благодарностью и поэтому, когда поляки избрали его в короли, то первым его делом было призвать к себе молодого Цехановецкого, сына своего благодетеля, и щедро наградить, как его самого, так и его отца. Король почувствовал в сыну Цехановецкого особое расположение и удержал его при себе в Варшаве.
Прошло несколько времени, и Цехановецкий получил известие о смерти своего отца; огромное родовое наследство, увеличенное ещё более щедростью короля, ожидало его на родине, и Цехановецкий, не теряя времени, поспешил в Витебск. Едва разнеслась там молва о его приезде, как в то же самое время страшная новость дошла до него. Его потребовали в гродской суд, для очных ставок с его матерью, но не Цехановецкою, а с простою женщиною, которая прежде была его кормилицею.
Женщина эта, за несколько дней до приезда Цехановецкого, явилась в гродской суд и объявила, что у неё есть на душе страшный грех, что молодой Цехановецкий – вовсе не Цехановецкий, но её сын, простой деревенский холоп, что настоящий панич, которого она кормила грудью, умер внезапно на её руках, и что она, думая осчастливить своего сына, тайно закопала в лесу умершего младенца и подменила его своим, что долгое время совесть мучила её, что наконец, для её спокойствия и для избежания божией кары по смерти, один ксёндз велел ей покаяться во всём чистосердечно. Женщина эта привела в доказательство справедливости своих слов такие улики, которые не могли оставить никакого сомнения, что настоящий Цехановецкий умер, и что приехавший под именем его из Варшавы был не кто другой, как самозванец.
Не столько потеря имущества, сколько позор, а главное невозможность жениться на той, которую молодой Цехановецкий полюбил всей душей, и которая была уже его невестой, заставили Цехановецкого решиться на ужасное преступление. Между тем родственники Цехановецких, воспользовавшись доносом, требовали для себя, как для ближайших наследников покойного Цехановецкого, всё его имение. Цехановецкий, с помощью другого ксёндза, уговорил свою бывшую мамку, а вместе с тем и настоящую мать, сознаться, что весь донос, ею сделанный, нарочно выдуман ею с целью получить от Цехановецкого значительную сумму. Ксёндз представил матери Цехановецкого все последствия её доноса; он объяснил ей, что и она сама не избегнет наказания за прежнюю вину, и что вместе с тем она разрушит совершенно всё счастье своего сына, для которого в настоящее время переход к ничтожеству будет ужасен, тогда как если бы с самого ребячества она воспитывала его, как крестьянина, то он не мог бы роптать на свою долю и проклинать свою мать.
В свою очередь Цехановецкий убедил мать, что он навсегда обеспечит её, уверил её, что он немедленно поскачет в Варшаву и выпросит у короля так называемый железный лист, то есть повеление, которое могло не только останавливать, но и уничтожать вовсе исполнение смертной казни, а что между тем для истребления всякого подозрения он сделает так, что гродской суд приговорит её к смертной казни, как клеветницу; но что он спасёт её, предъявив железный лист.
Бедная женщина из любви к сыну согласилась и объявила, что всё показанное ею – ложь. Цехановецкий уехал в Варшаву, повторив матери, что он едет за железным листом; дело приняло другой оборот, и суд приговорил клеветницу к смертной казни. Наступил ужасный день; Цехановецкий не приезжал, мать его была выведена на площадь и там обезглавлена; до последней минуты не теряла она бодрости, думая, что явится сын её с королевским помилованием.
Между тем не отказ короля в просьбе своего любимца и не какие-нибудь особенные обстоятельства не позволили Цехановецкому приехать вовремя в Витебск для спасения своей матери от смертной казни. Не спас он её вследствие холодного расчёта, что она, по слабости своего характера, может снова навлечь на него беду, от которой уже не так легко будет ему избавиться. Он ни слова не сказал королю о помиловании виновной, а напротив требовал её казни, называя её орудием своих корыстных родственников, желавших воспользоваться его богатством. По стечению обстоятельств, в тот самый день, когда обезглавленный труп матери Цехановецкого лежал на городской площади, в Варшаве была великолепная свадьба Цехановецкого, удостоенная присутствием короля, который за несколько дней пред этим дал своему любимцу звание старо́сты оршанского.
Дни проходили за днями, счастье благоприятствовало Цехановецкому во всём; милости, отличия, награды сыпались на него беспрестанно, он был отцом шестерых детей, которым предстояла самая блестящая будущность. Все завидовали Цехановецкому, ничто, по-видимому, не смущало его спокойствия; но что происходило в душе грешника – это известно одному Богу.
Выросли дети Цехановецкого, поседел он, умерла и жена его: но он был бодр и весел. Вдруг однажды он собрал к себе в комнату всех детей и запер за ними дверь.
– Послушайте, дети, – сказал он, – вы ни в чём не виноваты, но знайте, что вы носите имя, которое не принадлежит вам, и будете после моей смерти владеть богатствами, на которые ни я, ни вы не имеем никакого права, и которые приобретены страшным грехом.
Дети с изумлением взглянули на отца, а потом друг на друга.
– Вы дивитесь, друзья мои, что я говорю вам такие речи, но выслушайте мою исповедь.
Тогда старо́ста оршанский покаялся пред своими детьми в том, что он для удержания за собою чужого имени и чужих богатств пролил под мечем палача кровь своей матери.
– Я иду в монастырь, – добавил Цехановецкий, – и если вы хотите искупить хотя немного ужасный грех вашего отца, то сделайте то же. Всё моё имение я отдаю тем, кому оно должно принадлежать по праву.
Дети согласились обречь себя вечным молитвам за преступление отца и удалились вместе с ним в монастырь св. Эразма, и там, после смерти старика Цехановецкого, дожившего в постоянных терзаниях совести до самых преклонных лет, и после смерти шестерых его сыновей, пресеклась ложная фамилия Цехановецких, а настоящие обладатели этого имени, прежде обедневшие, получили всё то, что у них было отнято.
Ян Декерт
Утвердительно можно сказать, что ни одно племя не представляло столько разнообразных видов государственного управления, сколько представило их племя славянское: на севере, в Новгороде, оно образовало могущественную торговую республику; на юге, в Малороссии, – военную; посреди их сперва явилась держава, делившаяся между членами одного рода, потом из соединения этих раздробленных государственных участков возникло московское единодержавие; далее на юго-западе, в Черногории, одна из славянских отраслей составила другую военную общину, в которой с властью народного вождя соединился сан святителя. Несомненно однако, что самое своеобразное государственное устройство представляла Польша.
Из помещаемых здесь очерков и рассказов читатель может составить себе общее понятие о том положении, в котором находилась Польша пред концом своего самобытного существования, и поэтому в настоящем рассказе поясним только те события, которые приготовили 3-е мая 1791 года, день, когда могла начаться для Польши новая политическая жизнь.
Около второй половины XVIII столетия, беспорядки в правлении Речи Посполитой, развращённость и подкупность большой части лиц высшего класса, буйство мелкой шляхты и угнетение низших сословий достигли крайних пределов, и очевидно было, что для прекращения всей внутренней неурядицы и для избавления Польши от влияния на неё её соседей, пользовавшихся таким ходом дел, необходимо было сделать коренные государственные преобразования. Потребность их стали сознавать и сами поляки, но стремления к новизне и происходящие от них замешательства породили в Польше недоверие одного сословия к другому, взаимную боязнь и зависть и, наконец, открытую вражду между разными партиями, доходившую нередко до ожесточения и заставлявшую, из личных видов, забывать пользу и честь родного края.
Август II, а потом и Понятовский замышляли сделать польский престол наследственным; вообще поляки сознавали пользу этого преобразования, которое могло отвратить от Польши прямое участие соседей в выборе короля и подчинение его через это чужеземному влиянию; но вместе с тем польская шляхта видела в наследственности престола уничтожение всего того, что было ей так дорого и что в течение нескольких веков так тесно слилось с государственным бытом Польши. Среднее сословие, для которого желательно было установить наследственность престола, как средство, уничтожавшее отяготительное влияние шляхты на граждан Речи Посполитой, не имело никакого влияния на решение государственных дел; о крестьянстве, или хлопстве, и говорить нечего; казалось, что в Польше все позабыли даже о его существовании. Таким образом весь ход государственных дел сосредоточился к описываемому времени на сеймах, где всего более проявлялся дух магнатских партий, где завязывалась борьба их между собой, и возникали решительные противодействия некоторым королевским намерениям.
Август II, не присмотревшись ещё хорошенько к современному быту Польши, надеялся сделать престол её наследственным в саксонском доме с помощью своего немецкого войска и при содействии некоторых польских магнатов. Поэтому, чтобы предотвратить влияние шляхты, крепко отстаивавшей своё избирательное право, он старался отучить поляков от сеймов и не собирал их почти в продолжение тридцати лет своего царствования; впоследствии, увидев свою ошибку и убедившись в невозможности достигнуть своих намерений без содействия шляхты, он решился действовать иначе. Его приверженцы разъезжали по Литве и Польше и старались преклонить даже самых убогих дворян к поданию голосов в пользу наследственности польского престола в саксонском доме; но шляхта поняла в чём дело: она предвидела, что если соберётся в Варшаве сейм, то королю удастся осуществить свои замыслы, и потому она теперь в свою очередь старалась не допускать собрания общего сейма. Средство к этому было лёгкое: стоило только, чтобы не составлялись местные сеймики, и шляхта действовала с этою целью неутомимо. Наконец в январе 1733 года королю удалось собрать давно желанный сейм; на нём он хотел решить дело о наследии польского и литовского престолов в саксонском доме, но смерть не допустила его исполнить давно затеянные замыслы; Август II умер в Варшаве 1-го февраля 1733 года, и сейм разошёлся.
В царствование Августа III внутренний раздор в Польше усилился ещё более; наконец дошло до того, что в последние годы его правления послы на сеймах садились уже не на тех местах, которые им, как представителям известного края, были назначены по закону и по обычаю, но рассаживались по партиям, приходили на заседания не одни, но в сопровождении вооружённых приверженцев и большею частью надевали панцири под платья. Когда оканчивалось заседание, то послы опасались расходиться поодиночке и выходили вдруг. Соединившись партиями, они отправлялись домой уже не в каретах, как приезжали, но верхом, боясь, что после бурных заседаний может на улицах Варшавы завязаться бой между приверженцами разных партий, и рассчитывали на то, что среди общего смятения в карете не так легко будет пробраться сквозь разъярённую толпу, как ускакать от неё верхом.
Особенно, по бурливости своей, был замечателен сейм 1761 года; на нём некоторые послы, чтоб обмануть своих противников, выставляли свои имена на списках всех партий, но когда наступала решительная минута, тогда они неожиданно поддерживали только ту партию, к которой они действительно принадлежали. Такой способ действия не только обессиливал противную сторону, но и отнимал у неё бодрость и поселял в ней недоверие к прочим приверженцам; короче, уничтожал все её планы, все её расчёты.
На сейме 1761 года распри послов дошли до того, что двух князей Радзивиллов с их гусаром выбросили в окно из комнаты, в которой происходили заседания. Наконец, по смерти Августа III, в 1763 году, в Польше явился небывалый случай: противники князей Чарторыйских, имевших в то время огромное влияние на ход дел в Речи Посполитой, чтоб уничтожить это влияние, действовали так, что сейм, собранный для избрания короля, должен был прекратиться, и Польша оставалась без короля, в ужасном беспорядке, около одиннадцати месяцев.
В 1764 году был избран в короли Станислав Август Понятовский. Поляки весьма основательно укоряют Понятовского, что он предпочитал личные свои выгоды и свой личный сан, а также утверждение на польском престоле рода Понятовских, не только славе, но даже и самобытности своего родного края. С последним намерением короля, конечно, никак не могли освоиться ни магнаты, которые сами мечтали о короне, ни шляхта, которая могла располагать ею по своему произволу. С другой стороны, спокойствие Польши и устранение на дела её чужеземного влияния требовали уничтожения партий, а этого можно было достигнуть только двумя способами: установлением наследственности престола и укрощением своеволия шляхты. Первое трудно было исполнить, для исполнения же второго королю вскоре представился удобный случай.
В 1789 году начался так называемый великий сейм; два вопроса занимали его главным образом: один – как добыть денег на содержание войска, которое предполагалось увеличить до 100.000, другой – какой учредить в Польше образ правления, который был бы прочен, утвердил бы общее спокойствие и пришёлся всем по сердцу. В это время явился в Польше новый деятель: это был Ян Декерт. Казалось, судьба не предназначала ему никакого блеска. Смолоду Ян Декерт занимался только двумя предметами – торговлею и охотою; последняя страсть сблизила его с саксонскими офицерами; они, как приятели Декерта по охоте, сделались постоянными его покупщиками и доставили ему по торговле большие успехи. Около того же времени богатый варшавский купец Марциновский имел красавицу дочь Юлию. Целая Варшава не могла надивиться её прелестям; блестящая польская молодёжь ухаживала за нею, стараясь получить её руку; но как обыкновенно бывает, что богатые девушки, окружённые толпою поклонников, делаются слишком разборчивыми, так точно и Юлия, не замечая того, что время летит быстро, и отказывая по очереди всем женихам в ожидании ещё лучшего, засиделась в девках; между тем явилась новая красавица, все отхлынули от Юлии, и она принуждена была выйти замуж за Декерта. Её значительное состояние, при бережливости Декерта и при капитале, им самим нажитом, составили замечательное состояние. Декерт стал употреблять его на пользу общую, и Речь Посполитая, признательная ему за его добрые дела, дозволила ему купить населённое имение. Декерт легко мог получить дворянское достоинство, но он сам не хотел этого: он желал лучше быть первым мещанином, чем последним шляхтичем; он хотел облагородить своё неизвестное ещё имя чем-нибудь более высоким, чем дворянством, короче – он решился доказать, что сословие городских обывателей было, должно и может быть равным шляхте.
Достигнув почётного звания президента Варшавы, которое соответствует званию городского головы, и постановив употребить свои богатства на пользу того сословия, в которому он принадлежал сам, Декерт стал приводить в исполнение свои похвальные намерения. Он начал с того, что собрал вокруг себя людей, хорошо изучивших историю Польши, и с помощью их отыскал те акты об избрании польских королей, которые были подписаны мещанами вместе с шляхтою, также такие, из которых видно было, что паны вступали в число городских обывателей, и что они, без утраты шляхетского достоинства, подчинялись городскому праву; что сенаторы занимали городские должности, и что мещане имели право приобретать поместья, что они могли подлежать аресту только в таких случаях, как и шляхтич, что города управлялись сами собою, и что наконец мещане представляли свободное сословие, пользовавшееся такими же преимуществами, как и шляхта. Собрав все эти акты в одну книгу, Декерт оповестил города, что если они хотят узнать свои права и выйти из того унижения, в котором они находятся, то пусть они к известному сроку пришлют в Варшаву своих делегатов; собрание городских представителей Декерт назвал коалициею городов, а не конфедерациею, так как с последним словом соединялось в Польше понятие о своеволии и насилии.
На зов Декерта собрались в Варшаву городские депутаты; казалось, шляхта забыла совсем, что в Речи Посполитой есть, кроме её, и другие ещё люди, но Декерт и созванные им представители городов напомнили дворянству, что не оно одно составляет целый народ, и что все граждане должны быть равны пред лицом отечества. Декерт, в сопровождении депутатов, одетых в чёрное платье, отправился к королю и почтительно предъявил ему те права, которыми при его предшественниках пользовались в Речи Посполитой городские сословия. Король милостиво принял городовых депутатов, признал представление их основательным; но в то же время объявил им, что он сам по себе ничего для них сделать не может, и что они должны обратиться к сейму.
Исполняя волю короля, представители городов вошли попарно в залу сеймовых заседаний. Скромно объявил Декерт членам сейма причину своего появления и прибытия лиц, его сопровождавших; он выразил их желания и изложил пред сеймом те факты, на которых городские сословия основывали свои права; в это время, по распоряжению Декерта, членам сейма роздана была составленная им записка, объяснявшая, что города не требуют для себя никаких новых преимуществ, но только просят о восстановлении тех прав, которые им принадлежали издревле.
Сейм, как казалось, благосклонно принял представление городских сословий и обещался заняться их делом. Между тем чёрное одеяние городских депутатов стали объяснять двояко: одни принимали это как знак покорности, другие – как предвестие той печали, которою угрожают Речи Посполитой восстающие горожане. Вообще же, видя стремление их в уравнению своих прав с правами шляхты, члены сейма, стараясь остановить это стремление, положили дать дворянство почётнейшим мещанам, и 300 из них получили это достоинство. После этого тщетны были дальнейшие попытки Декерта возвратить своим сословникам их древние права. Измученный неравною борьбою и неизбежными с нею неудачами, Декерт умер с горя, оставив сейму письмо, исполненное горьких и вместе с тем справедливых укоризн. Казалось, со смертью его, шляхта не могла опасаться городских сословий, потому что они остались без руководителя; казалось, король лишился всякой поддержки против шляхты; он старался поднять городские сословия, чтоб ими подавить своеволие шляхты, не допускавшей наследственности польского престола; но дело вышло иначе: 3-е мая было уже недалеко.
Предметы, подлежавшие обсуждению сейма, не могли быть решены в скором времени, и поэтому 18-го ноября 1790 года было объявлено о продолжении сейма и в 1791 году. По обычаю, издавна существовавшему в Польше, универсалы о сеймиках, предшествовавших сейму, должны были выходить за четыре недели до начатия самых сеймиков, которые обыкновенно открывались 8-го сентября, в день Рождества Богородицы. В настоящее же время сейм объявил, что, видя способности находящихся на нём послов, он намерен продолжать с ними и дальнейшие свои заседания. Обстоятельство это весьма неблагоприятно подействовало на умы поляков. Обыкновенно сеймовые послы спешили как можно скорее оканчивать дела на сейме, потому что пребывание послов в Варшаве не только могло расстраивать их домашние дела, но и требовало часто особых значительных издержек. Поэтому в прежнее время обыкновенно послы сетовали на продолжение сейма, указывая на это обстоятельство, как на причину своего разорения. На великом же сейме случилось противное: сами послы желали оставаться представителями своего края на дальнейшее время.
Пред рассуждением о продолжении сейма началась речь об избрании будущего короля. Сам Понятовский заговорил об этом; но решение вопроса, избрать ли только ему преемника, или сделать вместе с этим польский престол наследственным в том роде, на который падёт выбор, король предоставил государственным чинам. Надобно заметить, что ещё до 1791 года являлась в речах и в печати мысль о том, какое правление лучше для Польши: избирательное или наследственное? Об этом несколько раз пытался заговорить при начале сейма и Понятовский; но обыкновенно дело это как-то заминали и откладывали на будущее время. Теперь вопрос об этом вдруг получил быстрое движение. После долгих рассуждений и упорных споров решено было большинством голосов сделать престол польский наследственным. Но такой способ решения этого дела был недостаточен, возник вопрос: утвердить ли это постановление тотчас на сейме, или послать его на предварительное рассмотрение сеймиков. Большинство держалось последнего мнения, и мнение это взяло верх. Сеймовым маршалам поручено было, чтоб при универсалах, собиравших шляхту на сеймики, была приложена повестка с приглашением шляхты давать своё решение и по делу о наследственности престола, с тем, что если они согласятся на это, то обратили бы свой выбор на саксонский дом, так как память о царствовании его в Польше, в продолжение слишком полувека, живёт ещё в памяти народной.