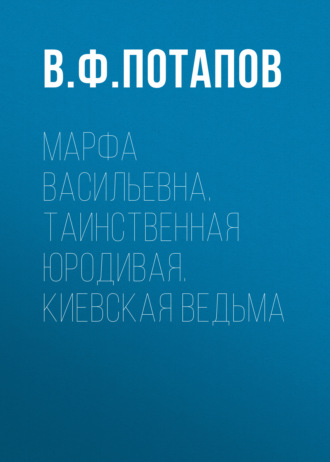 полная версия
полная версияМарфа Васильевна. Таинственная юродивая. Киевская ведьма
– Как твоя фамилия, молодой человек?
– Решмевич! – отвечала я, потупив глаза, и, чтобы скрыть свое смущение, отвесила ему снова почтительный поклон.
– Откуда ты родом?
– Из Кракова!
– Бардзо добжэ! Имеешь родных?
– Я круглый сирота.
– Бардзо добже! Зачем же ты был в Московии?
– При пане Ягужинском… Я был стремянным его.
– Бардзо добже! По сердцу ли тебе Московия?
– Я был там по необходимости и люблю одну свою родину, одну Польшу.
– Бардзо добже! А как тебе нравится Московия?
– Я ненавижу их… я поляк в душе…
– Бардзо добже! Нех их вшисци диабли везьмо! Ну, пан Ремшевич, так хочешь служить у меня?
– Если пану угодно, я почту за счастье! Кому же и служить, если не вельможному…
– Бардзо добже! По рукам! Ты будешь и у меня любимым стремянным. Ступай с Богом к должности, я отдам об тебе приказание своему маршалку; служи верно, а за червонцами остановки не будет, – пан Стемборжецкий золото не считает, а меряет, как пшеницу! Бардзо добже!
Таким образом, сделавшись слугою гордого пана, которого любимым и единственным занятием была соколиная охота, я вскоре приобрела полное его расположение; ему нравилось мое отчаянное молодечество, мой веселый нрав, а особливо ненависть к москалям, которую я по временам притворно выказывала. Часто с особенным удовольствием он слушал русские песни, которые я пела и которым, по словам моим, выучилась в Московии; но если бы кто мог тогда заглянуть во внутренность моего сердца, то поверь, Владимир, всякий бы согласился, что мучения души моей были невыразимы: мысль о родине и о тебе, ненаглядный мой, не оставляла меня ни на одну минуту, и всегда последний отголосок родного напева оканчивался тяжким вздохом, и часто заздравный кубок искристого вина мешался с горячею слезою воспоминания. Но время текло, а я не находила средства узнать о тебе, не имела возможности и смелости возвратиться в пределы отчизны, пока случай сам собою невольно не принес мне отрадной и вместе ужасной вести и не заставил меня, с опасностью собственной жизни, поспешить на родину. Вот как это было: пан Стемборжецкий был действительно прав: в руках его золото как будто не имело никакой цены – пирушки сменялись пирушками, столетнее вино лилось рекою, и хоть тихонько поговаривали, что пан, вручивши все имения свои под управление евреев, за несколько лет вперед забрал деньги и по этой-то причине очень ласково обращался с своими доверителями, но, несмотря на то, разгульная жизнь ясновельможного нисколько не изменялась и многочисленная панская челядь увеличивалась со дня на день. Всякий имел право и случай жить у пана, и потому-то большая часть его верных слуг была подозрительна: и беглый москаль, забывший свою родину, и поляк, преследуемый законами отечества, и немчин, сорвавшийся с виселицы, все находили приют и покровительство у гордого поляка. Этот случай свел меня с одним земляком, который, бежавши из Новгорода, еще во время бывшей на него опалы от царя Ивана Васильевича, скитался кое-где и наконец, пробравшись в Польшу, сделался сокольничим пана. Чтобы не подать никому о себе подозрения и не прослыть гордым паночком, я, против желания, очень часто присутствовала на застольных буйных пирушках своих товарищей. Однажды, возвратившись с соколиной охоты, которая пану посчастливилась, он был собою доволен против обыкновения и в награду за успех пожаловал своим сподвижникам пять полновесных червонцев, приказав еврею ближайшего шинка угостить порядком добрых молодцев. Разумеется, подобная милость пана всегда сопровождалась отчаянною попойкою и к подаренным деньгам всегда прикладывали еще своих заслуженных. Беседа кипела. Остатки сытного ужина исчезали с широкого стола, уступая место ендовам и стопам, которые пенились крепким медом и искрились заморским вином. Буйная толпа пировала. Шум, спор, хохот и изредка храпение обессилевшего гуляки раздавались в ветхом шинке. Я по обыкновению была тут же, но, сколько возможно уклоняясь от их нетрезвой веселости, скучала и ожидала окончания пирушки. Как вдруг рассказ сокольничего (это был наш земляк, о котором я тебе упомянула и который назывался у нас Москаль-Бурлило) обратил внимание; прислушиваюсь, и любопытство мое увеличивается…
– Да, друзья, – говорил Бурлило с жаром, – было времечко, были дни, которых, как говорит наша русская пословица, и до новых веников не забудешь, – тот, кто был очевидцем, или кому, чего избави Боже, пришлось самому на орехи. Государь Иван Васильевич шутить не любит, долго он слушал доносы на новгородцев, долго глядел на них сквозь пальцы, да как припожаловал с дружиною в гости, так уже и задал угощение; это было, как помнится, накануне самого Богоявления… Тут Бурлило пустился рассказывать о несчастиях Новгорода, которые мне были известны не менее его и которые, лишив меня и тебя, мой Владимир, общего ангела-хранителя, были причиною нашей разлуки и наших мучений… – Мария остановилась, две крупные слезы сверкнули на ее длинных ресницах, и она скрыла пылающее лицо на груди атамана. – Повесть Бурлилы, – продолжала Мария успокоившись, – раскрыла все раны моего сердца; я задыхалась от горести и вероятно бы изменила себе, если бы наконец рассказ его не сделался для меня особенно любопытным…
– Суд и расправа в Новгороде, – говорил Бурлило, – продолжались ежедневно: и правый и виноватый равно терпели опалу, а чтобы не попасть наравне с прочими на правеж, я почел за лучшее раньше убраться из города и бежал куда глаза глядят… Правда, – прибавил рассказчик со злобною улыбкою, – мне и было от чего уйти – рано или поздно не миновать бы виселицы или по крайней мере теплого местечка… – Тут Бурлило захохотал. – Вы понимаете меня! – вскричал он, сделавши значительный знак собеседникам. – У меня рыльце было в пушку!
– Ха, ха, ха! – захохотали его товарищи; я невольно покраснела за своего соотечественника, а он, как ничего не бывало, равнодушно продолжал:
– Признаться сказать, ушедши из Новгорода, я думал попасть совсем не сюда, не Польша влекла меня, не соколиной охотой хотел я потешить свою удаль молодецкую, а промыслом другого рода, повыгоднее, вы меня понимаете? К несчастию, проблуждавши около месяца по окружным лесам, я не мог набрести на отчаянную шайку атамана Грозы, который чудит на порядках в окрестности. Стрельцы его больно не жалуют, потому что он несколько раз угощал их по-свойски, да и сам наместник чуть ли не побаивается его… а говорят потому, что атаман зол на его племянника, который похитил его голубку, девушку кровь с молоком, и с тех пор об ней нет слуху, как в тучку канула.
Сердце мое замерло; я притаила дыхание, а разгорячившийся рассказчик продолжал:
– А знаете ли, ребята, кто этот атаман Гроза, который теперь грознее и страшнее самого новгородского наместника? Молодой человек, красавец, скромник, который бывало слыл в Новгороде за красную девицу и кроме своей лапушки ни на одну молодицу и смотреть не хотел, да от тоски по ней пошел и в разбойники; зовут его… – Тут Бурлило вполголоса произнес твое имя, Владимир, и потом начал продолжать рассказ о нашей любви; но я уже все знала, я не могла более слушать и, оставивши пирующих, скрылась из шинка. О! Ненаглядный мой, что тогда было со мною, как страдала я, что думала! – выразить и рассказать я не в силах. Сначала я не хотела верить словам пьяного рассказчика, желала успокоить себя противными мыслями, принять все это за простую выдумку и ожидать известия более достоверного, ждать времени и случая более удобного, чтобы возвратиться на родину, старалась позабыть проклятую пирушку и ужасный рассказ… Но едва наступила ночь и я осталась одна с моею подушкой – мучения души моей были уже нестерпимы; твой образ ежеминутно носился предо мною: то видела я тебя раненым, умирающим, то в мрачных стенах темницы, и… но не буду и не хочу рассказывать тебе всего, скажу только, что не прошло еще и недели, как я в один день утром уже явилась к пану Стемборжецкому и, отблагодаривши его за хлеб за соль, просила отпустить меня, говоря, что по особенным делам еду на родину, в Краков. Сначала ясновельможный удивился, спросил, разве я им недовольна? Потом начал упрашивать меня, чтобы я продолжала у него службу, и наконец, видя мою непреклонную решимость, обнял меня ласково и, отпуская от себя, снабдил порядочным запасом наставлений и, к чести его сказать, с туго набитым кошельком. Рассказывать тебе подробности обратного пути почитаю лишним; довольно того, что, расспрашивая дорогою об ужасном атамане, как будто из предосторожности, я успела разведать, что на краю Новгорода есть повалившаяся лачужка, что в этой лачужке живет еврей Соломон и что этот жид хорошо знает атамана. Вот тебе все мои приключения, вот разгадка, каким образом я нашла тебя. Еврей Соломон был мною отыскан; деньгами и угрозами я заставила его проводить меня к тебе, и вот я снова обнимаю друга моего детства, и ничто и никто на свете не разлучит меня с тобою!
Мария, кончивши рассказ, бросилась на грудь Владимира и зарыдала. Набрасываю завесу неизвестности на эту картину, и чтобы не прослыть романтиком а-ля Радклиф, избавляю читателя от описания тех чувств и разговоров, которые занимали героев моего рассказа. Вероятно, читающий или читающая эти строки когда-нибудь испытали священные чувства любви, может быть, любят и теперь, а потому, вероятно, потрудятся дополнить воображением то, что я прохожу молчанием, в полной уверенности, что все это они представят и верно и живо!
Уже лучи заходящего солнца, отразившись в последний раз на чешуйчатой поверхности Волхова, уступили место румяной вечерней заре, уже ночь на свинцовых крыльях своих пробиралась в чащу дремучего леса и веселый гость полей – красивый жаворонок, пропевши прощальную песенку, скрылся в золотистых колосьях нивы, но Владимир и Мария сидели все еще на прежнем месте и по-прежнему разговор их лился рекою. Теперь, в свою очередь, атаман рассказывал Марии свое несчастие, потом встречу с Иоанном, любовь сего последнего и несчастную разлуку с Натальею (что уже известно нашим читателям, а потому, избегая повторения, подслушаем только окончание их беседы).
– И это уже верно, – спросила Мария, когда атаман кончил свой рассказ, – и это уже верно, что Марфа Васильевна, из рода Собакиных, стала царицею Руси?
– Верно, моя милая, – отвечал Владимир, – так верно, как я теперь гляжусь в твои очи ясные, целую мягкий шелк кудрей твоих. – В Москву же, как я уведомился, уехал в бедный Иоанн отыскивать свою Наталью. Не знаю, верно ли, а носятся слухи, что он поступил в число царской дружины, и вот почему я должен ехать немедленно туда. Кто знает, может быть, я могу быть еще полезен несчастному. Что сделалось с Натальею, неизвестно, а Марфа Васильевна, говорят, с первого дня брака тает, как свеча… Согласишься ли ты следовать за мною?
– Везде, даже и на край света! Но, милый мой, если бы ты мог покинуть этот лес, покинуть навсегда, и в Москве, подобно Иоанну, сделаться слугою своего государя!
– Мария, ты предупредила мое искреннее желание: и наяву, и в тишине ночей эта мысль повсюду меня преследует; но увидим, что будет и что я должен буду предпринять.
Красавица снова упала на грудь атамана, и трели ночного соловья, раздавшиеся по лесу, заглушили их жаркие поцелуи…
Глава VIII
Терем царский. – Государыня на одре смерти. – Подарок Иоанна Грозного. – Умирающая. – Стражник. – Опричник. – Она умерла. – Обыкновение проходить сквозь Спасские ворота с открытою головою. – Таинственность поступков опричника.
На Флоровской башне (так в старину именовалась Спасская башня) пробило 9 часов; луна, плавая по светло-голубому небосклону, то играла бледными лучами своими с чешуйчатыми струями Москвы-реки, то горела радужной звездочкой на золотом кресте Благовещенского собора. В Кремле все было тихо, все спало; только в высоком тереме дворца государева сквозь разноцветное узорчатое окно мерцал слабый огонек. Это была опочивальня государыни, молодой супруги царя Иоанна. При тусклом свете лампады, которая теплилась в переднем углу перед святыми иконами, едва можно было рассмотреть внутренность светлицы: на высокой резной постели, под штофным голубым занавесом лежала Марфа Васильевна. Глаза ее, осененные длинными ресницами, были полузакрыты; но сон скорее походил на припадок немочи[20], чем на успокоение, и ежеминутно то на бледном, истомленном, но все еще прекрасном лице ее появлялась болезненная улыбка, то роскошная грудь вздымалась тяжким вздохом; розовые уста ее, некогда так приветливо улыбавшиеся, теперь лепетали какие-то невнятные слова, замиравшие в воздухе… Кругом все было тихо, и только изредка в глубине темного угла, сквозь полурастворенную дверь, показывались время от времени неопределенные женские лица.
Около часу больная пробыла в забытьи; потом, открывши глаза, она окинула вокруг себя мутным и робким взглядом, сделала движение, как будто желая приподняться, но тотчас же в изнеможении опустилась на пуховое изголовье, и болезненный, едва внятный стон раздался в светлице; в это время дверь отворилась и женщина лет за пятьдесят, в богатом парчовом сарафане и жемчужной повязке, показалась в сопровождении трех также богато одетых девиц. Последние, сложивши руки, смиренно остановились в отдалении, а старуха подошла к постели и, наклонившись к изголовью больной, почтительно спросила:
– Не прикажешь ли чего, государыня? Али не изволишь ли прикушать лекарственного снадобья, что прислал тебе на исцеление супруг твой, великий государь Иван Васильевич? Гонец, отдавая мне сткляницу, сказывал, что напиток составлен знахарем-немечином из разных трав, которые он собирает в полночь накануне Ивана Купалы, и всякую немочь как рукой снимает, – не подать ли, государыня Марфа Васильевна, сулеечку?
– Священника мне, священника! – проговорила больная едва внятным голосом. – Я умираю, я чувствую, что минуты мои изочтены! Теперь уже не в силах спасти меня никакие снадобья, мне нужен врач душевный… духовника… ради бога, духовника!..
Две девушки по приказанию старухи бросились вон из светлицы, а последняя, наклонившись к больной, робко прислушивалась к ее прерывистому дыханию. Марфа Васильевна снова впала в беспамятство; но потом, вдруг открывши глаза, поспешно приподнялась на постели и вскричала:
– Впустите его сюда, вот он, вот государь… я его вижу… я слышу его голос…
Старуха сомнительно покачала головой.
– Государь Иван Васильевич в Александровской слободе, – сказала она, не понимая слов больной. – Если прикажешь, я сейчас пошлю гонца с известием, что ты желаешь видеть его очи ясные… Такой приказ изволил отдать сам государь Иван Васильевич; а посмотри-ка, государыня, какое он новое ожерелье тебе пожаловал, вчера с нарочным прислал. – Старуха взяла со стола небольшой ларец и, раскрывши, подала его больной с самодовольною улыбкой, примолвивши. – Полюбуйся-ка, словно жар горит, все камни дорогие, работа хитрая…
Марфа машинально взяла ларец и, вынувши дорогое изумрудное ожерелье, начала с детским простодушием его рассматривать; лампада ярче вспыхнула пред иконами, но и тут только наблюдательный взгляд мог заметить, что на лице ее блуждала какая-то неопределенная улыбка, глаза горели каким-то ярким огнем.
– Так точно, – проговорила она, перебирая крупные изумруды, которые играли и переливались с блеском лампады, – так точно когда-то сияли мои очи ясные, словно звездочки небесные, так точно когда-то горело лицо мое, словно маков цвет о полдень… да это было уже давно… очень давно… – Больная вздохнула и опустилась на изголовье; ожерелье выпало у нее из рук. В светлицу вошел маститый священник с дарами. По знаку, поданному им, все присутствовавшие удалились, а служитель алтаря осторожно приблизился к роскошному ложу больной: сия последняя, увидавши почтенного старца, внезапно и как бы получивши прежние силы, привстала, села и, сложивши на груди руки смиренно, но с каким-то трепетом, выражавшим то восторг, то опасение, ожидала начала исповеди… Исповедь началась… Более получаса продолжалась духовная беседа, по прошествии которой священник вышел в соседнюю светлицу, где сидела мамка с сенными девушками и, благословивши их, тихо сказал:
– Войдите, великая государыня желает исполнить последний долг – проститься с вами, спешите, это последняя воля болящей, время дорого!..
Все, повинуясь приказанию старца, вошли в опочивальню. Марфа Васильевна спокойно лежала в постели: видно было, что исповедь утомила ее; глаза горели каким-то небесным огнем, яркий румянец (предсмертный гость) покрывал ее ланиты, все вокруг ее дышало чем-то неземным. Она приветливо подала рукою знак, и все приблизились к ее ложу… Чрез несколько минут гробового молчания, сквозь растворенную дверь, послышались в опочивальне громкие рыдания… На Флоровской башне било полночь.
Еще не смолк унылый бой полуночных часов, как испуганный стражник, дремавший у Флоровских ворот, опершись на бердыш, торопливо окликал проскакавшего быстро всадника, который, не отвечая ни слова, подобно молнии пронесся прямо к палатам царским. Только отдаленный топот лошади да отблеск луны на светлых подковах уверял стражника в той мысли, что он видел его не во сне.
– Чтоб тебя провал взял, супостата! – проворчал он, глядя вслед всаднику, который уже был далеко. – Пронесся словно вихорь и на оклик отвечать не хочет! Да знать басурман какой-нибудь, и шапки не сломил, въезжая в ворота, не сотворил и крестного знамения, проклятый безбожник! Сам государь-батюшка с открытою головой проезжает эту святыню, да еще кладет поклон земной. Счастье твое, что я стою пеший, а то не ушел бы ты, не положивши за свое беззаконие сотни добрых земных поклонов пред иконою Спасителя[21]. Ба, ба, ба… Да он остановился подле дворца государева… ну, так и есть, опричник, – эти кромешники всегда таковы, и Бога забыли, и царя не боятся, и воинов его считают ни за что… – При этих словах стражник важно выпрямился, но сон снова взял свое и он, склонившись на бердыш, по-прежнему исправно задремал.
Между тем всадник, который по платью действительно принадлежал к дружине опричников, быстро подскакавши к дворцу, соскочил с лошади и, вынувши из-за пазухи небольшой ларец, уже хотел подняться на крыльцо, как знакомый голос юродивого Яши остановил его…
– Погоди, Ваня, погоди! – закричал тот, показавшись внезапно из-за угла. – Откуда это тебя Бог принес? Чай из Александровской слободы? Знать, по вчерашнему с подарочком к молодой государыне, то-то и скакал, словно из лука стрела несся! Да нет, Иванушка, смерть хоть и пешком ходит, а поспешает, куда надо, поскорее тебя…
– Ты не ошибся, Яша, – сказал опричник, стараясь прервать замысловатые речи юродивого. – Его царское величество посылает венец из дорогих камней государыне Марфе Васильевне и велел осведомиться о здоровье ее…
Юродивый покачал головою:
– Поздненько, Ваня, поздненько! Марфе Васильевне приготовлен венец получше того, что ты привез в ларце своем. Да что это, голубчик, в какое ты басурманское платье оделся! На шапке и на левой поле псовые морды, при седле метла… Кабы твоя суженая могла теперь взглянуть на тебя, так и она бы не узнала; ну, да верно Богу так угодно… Господи, помяни рабу Твою во Царствии Твоем! – Юродивый, сказавши это, заплакал и, обратившись к Благовещенскому собору, начал класть земные поклоны.
Опричник поспешно подошел к юродивому и, поднявши с земли, сжал крепко его руку.
– Скажи мне, Яша, ради бога скажи, что значат твои слова? Увижу ли я государыню?..
Юродивый набожно поднял к небу глаза:
– Увидишь, Ваня, непременно увидишь там, куда придем мы все, только не в одно время… Ну да я все буду там поскорее тебя. Посылай поклон, голубчик, а теперь прощай, Яше пора молиться. – Юродивый побежал, и уже издали гробовое: со святыми упокой! донеслось до ушей опричника, который медленно взбирался на высокое крыльцо дворца государева. Прошедши длинный, темный коридор, он поднялся по узкой и темной лестнице вверх и, остановившись у дубовой двери, которая вела в переднюю светлицу терема государыни, наложил дрожащую руку на медную скобу и остановился. Сердце его билось внятными ударами, и после нескольких минут нерешительности наконец он отворил дверь… Сенные девушки толпились при входе в опочивальню и горько плакали; даже появление незнакомца не обратило их внимания. Первый, кто заметил присутствие опричника, был маститый священник, который вышел из опочивальни; он с удивлением подошел к незнакомцу, и подозрительно посмотревши на его одежду, спросил:
– Что тебе здесь надобно, сын мой?
– Твоего благословения, батюшка! – отвечал опричник, почтительно поклонившись пред служителем алтаря.
– Бог да благословит тебя, – отвечал старец, осенивши молодого человека крестным знамением. – Но что привело тебя сюда, в терем государыни, куда нет доступа людям твоих лет и твоего звания…
– Я прислан гонцом от великого государя с драгоценным подарком: его царское величество изволил приказать мне предстать пред светлые очи государыни, вручить дары и ныне же принести ему весть о ее здоровье.
Старец отер выкатившуюся слезу.
– Ты опоздал, сын мой! – сказал он опричнику. – Марфе Васильевне уже не нужны более драгоценные подарки: она уже не государыня Руси! Закатилось солнце красное, завял на земле цветок едва распустившийся, чтобы снова распуститься и цвести в обителях небесных. Марфа Васильевна скончалась! Иди и возвести об этом государю…
В это время молодая, прелестная женщина, покрытая фатою, подошла к опричнику, чтобы принять ларец, но, взглянувши на государева посланного, вскрикнула и отскочила… ларец упал к ногам священника… опричник, ломая руки, рыдал…
– И так сбылось ты души моей предчувствие! – вскричал он наконец в исступлении: она жива, но не существует только для меня одного, а я, несчастный, желал одного в жизни счастия – взглянуть еще один раз на ее светлые очи, услышать хотя один слабый звук голоса, уловить хотя одну улыбку… вот желание мое исполнено, и что же…
– Что с тобою? – спросил старец, подошедши к опричнику и взявши его руку. Сенные девушки между тем хлопотали около молодой женщины, которая лишилась чувств… – Что с тобою, сын мой? – повторил священник. – Я не разумею слов твоих!..
– Святой отец! – вскричал молодой человек, сжимая судорожно руку Иерея. – Есть много непонятного на свете, и ты не поверишь мне, хотя бы я сказал тебе и сущую правду. К чему же растравлять раны бедного сердца? Благослови меня, святой отец, в путь далекий!
Священник, благословляя незнакомца, спросил его:
– Куда же ты теперь… В какой далекий путь судьба несет тебя?..
– В могилу! – проговорил с отчаянным видом опричник, и его уже не было в светлице. Выбежавши на крыльцо, он отвязал лошадь, быстро вскочил на седло и снова, подобно вихрю, пронесся в Флоровские ворота, мимо стражника, который на этот раз боязливо перекрестился…
Читатели, вероятно, узнали в незнакомце Иоанна, сына ладожского наместника; но им еще неизвестна, может быть, причина его поступков. Мы объясним все непонятное в нескольких словах: вы, я думаю, не забыли того, что Василий Степанович Собакин, подстрекаемый видами честолюбия, решился вместе с дочерью везти в Москву и свою воспитанницу, которую любил он не меньше дочери. Вскоре разнеслась в Новгороде неверная молва, будто бы не дочь, а воспитанница Собакина удостоена выбора государева. Вы также узнали, как впоследствии Иоанн, приехавши в Москву, узнал горькую для себя истину: Наталья, по честолюбивым видам Собакина, сделалась супругою другого.
Теперь для читателя понятно то ужасное положение юноши, когда он, явившись во дворец с дарами царскими и не заставши государыни в живых, внезапно увидел бывшую невесту свою, покрытую фатой. Молодая женщина, принимавшая от него ларец, была Наталья…
Глава IX
Похороны царицы. – Народная молва о причине ее смерти. – Государь и юродивый. – Виселица. – Приготовления к казни. – Рассказ тюремщика. – Побег атамана Грозы из темницы. – Отшельник. – Опять юродивый. – Его молитва и смерть. – Гробница государыни Марфы Васильевны.
Уныло, грустно благовестили колокола московские. Москвичи толпами стекались со всех сторон в Кремль; пред Вознесенским монастырем народ затопил площадь: негде было, как говорят, упасть яблоку; все вполголоса разговаривали между собою, и на лице каждого можно было прочесть, что нерадостное событие собрало вместе общую семью царя русского.
Пожилой купец (отирая слезы и осеняя себя крестным знамением). Господи! Не поставь нам горесть нашу во грех! Не роптать на премудрый промысел Твой собрались мы сюда все единодушно, но молиться о упокоении души нашей общей матери, отдать последний долг ее священным останкам…
Молодой сиделец. Истинная правда! И торговля на ум нейдет, горе за горем. Лишь только успели отпраздновать свадебный пир, да молвить: слава богу, есть на Руси матушка-царица! А ее уже и не стало, и вот мы сиротеем снова… Эх! Как подумаешь, зачем мы собрались теперь, так сердце слезами и обливается! Провожать государыню, провожать общую мать, а куда? В такой путь дальний, откуда уже нет возврата.




