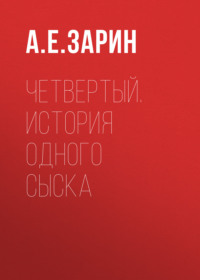полная версия
полная версияНа изломе
Сыновья молча кивнули, а князь продолжал:
– Не древен род наш. Столь не древен, что Морозовы и те кичатся предо мной, да я свое место знаю и милостью царской не обделен, а кои старшие, как Голицыны, Шереметевы, Мосальские или там Трубецкие, так те чтут меня. А я так мыслю, что заслугами, а не старинностью отличен быть должен и тем возвеличить род свой. Я сделал свое, а для вас сделал и того больше. Меня и царь, и люди московские любят.
Он усмехнулся.
– Небось, когда смута на Москве была и народ дома Морозовых разбивал, они у царя попрятались да дрожью дрожали, а как царь меня к народу выслал, так все люди меня послушались.
Он задумался и тихо сказал:
– Дал я им тогда Плещеева да Траханиотова, а по правде, надо было Бориску отдать, да и Глеба впридаток. Они с Милославским-то больно уж себе, а не царю прямили. А Плещеев что? Плещеев холоп был у них… Так-тось! Народ и по сю пору меня любит и вас любить будет. Я дел сторонюсь, воеводства не ищу, местами не считаюсь, а за то царь, коли правды ищет – всегда меня призовет. Вот и Никона выбирать; кому царь про свои думушки говорил? А мне! Для тебя говорю, Терентий! Ты ноне царем отличен, идешь по дворцовой службе. Прями царю, и отличен будешь. Гляди, Морозовы уже отодвинулись. Только семейством и держатся: а тестюшка намедни ишь какую потасовку получил! Царь-то его возил, возил по полу. А ты, Петр, меча не оставляй! И промеж себя дружите, первое дело. Тебе, Терентий, дом этот будет и рязанские вотчины, а тебе, Петр, коломенские. Вот и все! Сестру честно замуж выдайте…
– Батюшка, – заговорил Петр, да что это словно ты помирать сбираешься?
– Не сбираюсь, – ответил князь, – а в животе и в смерти Бог волен! Завтра я вас на утрене благословлю, а теперь и соснуть еще час можно!
Князь встал, и за ним поднялись его сыновья. Они почтительно поцеловали его в плечо и вышли из горницы.
Князь прошел в опочивальню; сняв кафтан, протянулся на лавке и скоро захрапел на всю горницу.
Терентий пришел на свою половину. На высокой постели, раскинувшись и разгоревшись от жару, крепко спала его молодая жена. Румяна выкрасили ее подушку алой краской; от жары по вспотевшему лицу ее полосами стекла черная краска бровей, и, взглянув на свою жену, Терентий хмуро отвернулся в сторону и, отойдя, лег на лавку, но не затем, чтобы спать.
Тяжкие мысли отравляли его покой.
«Вон отец сказывал, – думал он, – чтобы я возвеличил род наш, а я поганю его. Поганю честное имя свое, клятву преступаю, окаянствую, и нет мне хода! разве в монастырю идти! Думал, уйду на войну, сложу голову, а как государь вымолвил: на Москве останешься, – так от радости у меня дух захватило. Господи, думаю, нагляжусь на нее, налюбуюся. Старый уедет с царем, одна голубушка! Ох, окаянство, окаянство!» Он сел на лавке и в порыве отчаянья схватил себя за голову.
Действительно, с ним стряслось горе.
Довелось ему увидеть боярыню Морозову, Федосью Прокофьевну, жену Глеба Ивановича, и с той поры он стал сам не свой. Ее нежное личико с полными алыми губами, с большими, как звезды, горящими, серыми глазами и рядом морщинистое, сухое лицо старика Морозова грезились ему и во сне, и наяву.
Против воли стала разом противна ему молодая жена, и спокойствие души уже навсегда оставило его.
А там случилось увидеть ему боярыню и два, и три раза. Был он однажды у Глеба Ивановича с царским наказом, когда старик занедужился, и о ту пору она поднесла ему чару меда. Поднесла и своим взором открыла его великую, мучительную тайну.
После, в зимнюю, студеную пору, столкнулся с ним морозовский холоп Иван и указал ему дорогу в сад, и там он увидел боярыню. В одной телогрейке да пуховом платке поверх кички сошла она к нему, сошла с лицом снега белее… для чего?
Терентий взмахнул руками и опустил их на колени.
Чтобы его укорить! Он-де ее покой смутил.
Как дух нечистый мешает ей спать, грезится, мешает ей молиться… и она заплакала!.. Он обомлел сперва, а потом – откуда слова взялись.
А с ним что деется? Не он, а она околдовала его! Он тоже клялся перед Богом жене своей, а теперь что с ним? Где он? Да что! За ее слово доброе, за взгляд, за ласку он хоть на отца…
– Тсс! – Боярыня даже руки подняла в ужасе и стала его уговаривать бросить нечестивые мысли, уехать, а с ней встретясь, глаза в сторону воротить. Только усмехнулся на такие речи Терентий и пошел прочь, даже не прикоснувшись к руке боярыни.
Наверное, никто никогда так не проводил со своей зазнобой времени на потаенном свидании.
Терентий горько усмехнулся.
С того пошло. Словно отраву пили они, сходясь на свидания и жалобно коря друг друга, но порой они и делились своими думами. Боярыня говорила с тоской про старого да ревнивого мужа, Терентий рассказывал, как ему опостылело в доме.
Боярыня утешала его, раз провела рукой по его черным волосам…
«Обрадуется ли?» – подумал Терентий про свое оставление в Москве и горько улыбнулся.
Иному и любовь на муку! Ведь прожил же он тихо, покойно до двадцати трех лет. Немало повидал дворовых и сенных девушек, видал и мещанок вельми красивых, и хоть дрогнуло бы его сердце. Жену дали, хоть бы единожды он порадовался, а тут вдруг, сразу, ровно пожаром вспыхнул.
И Терентий мучился своей греховной любовью, сознав давно себя бессильным бороться с ней…
Тем временем Петр сидел в маленьком садочке при домике Иоганна Эхе и весело болтал с его дочерью Эльзой, пухлой, розовой немкой, и братом ее Эдуардом, который уже пятый год учился малярному искусству у известнейшего придворного художника Данилы Вухтерса. Что же ты думаешь, – с горячностью говорил Эдуард, – без меча и прославиться нельзя? Ан можно! Вот я, как царь победит ляха, намалюю доску и на ней град Смоленск или иной какой, и образ царя, и войско наше, и пальбу из пищалей, и стены града рушатся. Поднесу царю – вот и слава. Учитель намалевал, как град Иерусалим падает, вот и я!
– Пока! А я уже в славе есть! – раздался молодой голос, и в садик, легко перескочив низкую изгородь, впрыгнул молодой человек, ровесник Петра. На нем был забавный коричневый халат и шапка скуфьею, что придавало ему вид послушника. Но молодое лицо его с маленькой рыжей бородкой, с ярко блестящими глазами говорило о горячей крови, о непреклонной энергии, и когда он взглянул на молоденькую Эльзу, она вспыхнула, как небо зарницей.
Это был Иван Безглинг, тоже ученик Вухтерса и товарищ Эдуарда.
– Как же это удалось тебе? – спросил Петр.
– А просто! Прослышал я, что патриарх говорил: неладно у нас образа малюют. Люди не люди, натуральности мало. Я намалевал на доске Миколу, ото всех потиху – да и понес патриарху.
– А он? – нетерпеливо спросила Эльза.
– А он взял, смотрел и даже хвалил. Тебе это, говорит, дар от Бога – и послужи им Богу. Святить у себя оставил; мой, говорит, лик намалюй. Я ушел, а нынче слышу, патриарх царю про меня уже сказывал. Вот!
Эдуард с завистью взглянул на него.
– Счастливый! Ну да ужо! – и, отгоняя дурное чувство, он встряхнул головой, а Эльза козочкой вбежала в домик и, бросившись на грудь матери, сказала, захлебываясь от радости:
– Мутерхен! Он в славу вошел!
– Кто? – спросила Каролина.
– Ваня, – тихо ответила девушка.
Каролина засмеялась и обняла ее.
– Что же? Пусть сватов шлет, – улыбаясь, сказала она. – Ты знаешь, ни я, ни папахен тебя неволить не будем.
Как есть в эту минуту на пороге комнаты показался огромный Эхе. Высокого роста, он, засев дома после долгих походов, разжирел от безделья и казался великаном. Голова его оплешивела, огромная борода разрослась до пояса, кровавый рубец по-прежнему горел через все лицо, но ярче его светились глаза Эхе.
– Так, так, – хрипло проговорил он, – без стариков и договоры. Ой-ой! Ну-ка, снеси мне в садик пива, я пойду да покалякаю с молодежью.
VII
Скаредное дело
Егор Саввич Матюшкин, милостями Милославских, а главное – Бориса Ивановича Морозова, из дьяков ставший думным боярином, сидел в Разбойном приказе и прямил Морозову во всех делах его.
Невысокого роста, с маленьким брюшком, которое он для важности вперед пятил, с небольшой плешью в слегка седеющих черных волосах, с черной бородой, раскинутой на плечи, обликом немного жидовин, боярин Матюшкин почитал себя первейшим красавцем и думал, что у всякой бабы, которая взглянет на него, сердце трепыхается птицей. Ходил он важно, голову держал кверху, и самое сладкое дело ему было в застенке бабу пытать. Случалось, что иная больно по душе ему становилась, тогда он мигал своему дьяку, Травкину, и баба мигом из ямы или вонючей клети переводилась в дом боярина. Для того у него были горницы особые устроены, в пристройке посередь густого сада. Там боярин и тешился.
Сегодня он был не в духе. Акулина, которую он для себя с дыбы снял, чуть ему глаз не выцарапала. В злости хотел он ее назад в приказ отправить, да больно полюбилась она ему, и вместо криков и брани он только сказал ей ухмыльнувшись:
– Добро, молодка! Ретив конь, да объездится. Я пойду, а ты вспомни друга своего Тимошку-кожедера!
И ушел в приказ. Зато уж и лютовал он там.
В застенке о ту пору находился важный преступник, англичанин Вильям Барнели. Это был молодой красавец с открытым, смелым лицом, с вьющимися до плеч локонами.
Он приехал в Москву для торговли и попал в дом боярина Морозова. Там не раз звали его в терем показывать его товары, и молодая боярыня Анна Ильинична, сестра царицына, покупала у него добра немало, а пуще любила его рассказы, которые передавал он ей коверканым языком.
Стар был Борис Иванович. Злые языки московские говорили, что он сам на себя беду накликал. Мало ему было считаться дядькой царским, мало было состоять ближним во всех делах, так задумал еще с царем в свойство войти: поженил молодого царя на дочери Милославского, Марии Ильиничне, а сам взял да на ее сестре женился, и как мороз губит весенний цвет, так загубил он молодую девушку. Вместо любви и доверия вошла в дом ревность жгучая, и нередко в терему раздавались глухие крики… сенные девушки в ужасе убегали в клети да повалуши[3], во всем доме наступали скорбь и уныние. Это боярин вместо ласки плетью учил молодую жену свою.
А когда узнал, что не два и не три раза был в его отсутствие в терему английский купец, когда донесли ему злые люди, что чуть он на верх уйдет, Барнели уже подле дома с товарами, – свету не взвидел старый боярин.
Уж и бил он боярыню о ту пору! Перед самым царевым походом вместо прощания! Заливалась она горючими слезами, Спаса во свидетели звала, Николой-угодником заклиналась – себя не помнил старый боярин.
А потом позвал своего верного слугу боярина Матюшкина, наказал забрать в приказ этого Барнели и от него правды дознаться. Матюшкин было призадумался.
– Моя голова в ответе, а ты слушай только, – сурово произнес Борис Иванович, и Матюшкин лишь низко поклонился ему.
– Твой холопишко!
Тут же под вечер был захвачен англичанин, а наутро, чуть только заалел восток, стоял он в страшном застенке и недоумевающим взглядом оглядывал мрачные стены, сырой пол и непонятные орудия пыток.
Но вошел боярин, вошел с ним дьяк Травкин, тонкий как сичка, с большой лохматой головой и красным носом – и скоро узнал несчастный Барнели, для чего предназначено это странное сооружение вроде виселицы, с веревкой и кольцом…
Матюшкин пытал его накрепко, да ничего от него не дознался.
– Жилист, окаянный, – сказал он наконец с глубоким вздохом, – что из него вытянешь?
– Дозволь, боярин, слово молвить, – вертя головой, сказал Травкин.
– Ну, ну!
– Беспременно надо от боярыни сенных девушек достать. Я так смекаю, что от них скорее дознаемся!
– Во-во! – радостно воскликнул Матюшкин. – И ума в тебе, Еремеич! Дело! Вестимо, девок достать… мы их… – И боярин засмеялся громким, утробным смехом, словно конь заржал.
– Скинь его, Тимошка! – ласково сказал он палачу, вставая. – На нонче будя! Так ты, Еремеич, твори! Иди к самому боярину на двор. Так, мол, и так… да там посмотри… – И боярин скосил глаза. Дьяк сразу понял его намек и закивал своей головой.
Боярин развеселился и в добром духе пошел домой.
В это же самое время холоп боярина Панфил, малый в плечах косая сажень, с круглой как шар головой и придурковатой рожей, в которой виднелось все же лукавство, пробрался огородом, перемахнул плетень и бегом пустился вдоль Москвы-реки вплоть до Козьего болота, где незаметно юркнул в калитку. Так, переводя дух, он уже степенно пошел по пустырю, обогнул большую избу Сыча и зашел в нее с заднего крылечка.
Пьянство и разгул в рапате кончились, и огромная запотевшая горница с длинными скамьями и столами, с воздухом, пропитанным дымом табачного зелья и сивухи, казалась хмурой, мрачной, как душа пьяницы без опохмелья. У большой бочки, свернувшись клубком, лежал мальчишка, на лавке громко храпел сам хозяин.
Панфил оглянулся и хотел уже будить Сыча, когда в низенькой двери, ведущей в повалушу, показался Федька Неустрой.
– Ты, паря! – сказал он Панфилу ласково. – Ну, подь сюда, подь!
Панфил послушно нагнулся и нырнул в темноту через маленькую дверцу.
Неустрой провел его в просторную клеть.
Там стоял в углу стол и вдоль стены протянулись две скамьи. На одной лежал ничком нескладный Семен и, свесив до полу свои корявые, черные руки, храпел громким храпом. За его головой, опершись на облокоченную руку, сидел Мирон. Лицо его припухло от беспрерывного пьянства, покрасневшие глаза блуждали дико, – и только Федька Неустрой казался таким же, каким был в гостях у Тимошки.
– Ну, вот и наш сокол! – сказал он, вводя Панфила. Мирон поднял голову и тотчас хрипло спросил:
– Сдалась?
Панфил поклонился, тряхнул волосами и скрипучим голосом ответил:
– Не еще! А только сдаст.
– Это почему? – спросил Неустрой.
У Панфила словно запершило в горле. Он стал кашлять.
– Встал это утром и ничим-то ничего во рту не быль! – сказал он вместо ответа.
– Дай ему! Нацеди там! – произнес Мирон.
Неустрой выглянул за дверь и крикнул на мальчишку, который тотчас вскочил на ноги, протирая заспанные глаза.
– Пива да калачей волоки!
Панфил с жадностью закусил калач, выпил с полковша пива и, наотмашь отерев губы, заговорил:
– Как же ей не даться? Он ее тогда к кожедеру назад отошлет, да там ее драть будут. У нас завсегда так. Покобенится, и вся тут!
Мирон вцепился рукой в свои волосы.
– Ой, правда! – заскрипел он зубами. – Что же, баба пугливая! Мужик и тот погнется, а она? Ну, ну!
– А выкрасть можно? – спросил Неустрой.
Панфил закрутил головой.
– Не! Кабы она одна там была, а их теперь шесть! Выходит, пять стерегут. Так-то ли завоют… ой! А по саду псов спущаем. Такие лютые…
– Слушай, – порывисто вскакивая, произнес Мирон, – ты вот нас узнал. Мы добрые молодцы. Живем весело, ни о чем не тужим; голову на плаху готовим, а дотоле сами себе бояре. Ты же холоп, из батожья не выходишь. Хочешь идти с нами?
У Панфила вспыхнули глаза.
– Возьми, атаман! – сказал он.
– Ну и возьму! Помоги Акульку изъять. Для псов мы тебе зелья дадим, ты их угости, они и стихнут, а там – проберись только да Акульке шепни: готовься, мол. Нонче в ночь! А?
Панфил заскреб в затылке.
– Оно, положим, коли ежели… – начал он.
– Хошь али нет? Решай! – резко спросил его Мирон.
– Да, что ж… я… пожалуй!
– Ну вот!.. Теперь слушай!
И Мирон стал объяснять Панфилу, что и как он должен сделать, в какие часы, и потом учить, как подавать сигналы.
– А коли не сладится дело наше, – грозно окончил Мирон, – ну и попомнит меня боярин в те поры!.. Иди!!..
Панфил поклонился и, выбравшись из рапаты, снова засверкал голыми пятками.
VIII
Отъезд
Как в канун 26 апреля шло великое прощание по всей Москве с пьянством и буйством, так творилось и в канун 1 мая, дня, когда выезжал в поход царь со своим двором. Любя пышность и блеск, видя в них величие своего звания, царь обставлял всякий свой выезд великими церемониями с массой участников. Сборы же в далекий поход были уже немалым делом.
Снаряжались целые обозы, два полка в проводы; царь брал с собой и ближних бояр, и окольничих, и постельных, и дворян, и стольников, и кравчих, а челяди без счета, – и каждый боярин, в свою очередь, не говоря о личном отряде, забирал и обоз, и ближних, и челядь.
И все это снаряжалось, суетилось, прощалось.
Царь, совершавший первый поход, горя желанием славы, ездил молиться в Угрешский монастырь, потом к Троице-Сергию, а потом, думая о семье и дорогом стольном городе, держал думу с боярами и другом своим, патриархом.
Еще задолго до отъезда правление на время отсутствия царя было поручено боярам князьям Ивану Васильевичу Хилкову и Федору Семеновичу Куракину да ближнему боярину Ивану Васильевичу Морозову.
Они стояли теперь перед царем, а он умильно говорил им.
– Други, послужите мне правдой. Берегите царство, Москву-матушку и государыню-царицу. Коли что худое, упаси Господи, – царь набожно перекрестился, – приключится, не мешкая мне отписывайте. А еще прошу обо всем пресвятому отцу нашему докладывайте и ему, как мне, доверяйте!
– Холопишки твои! – отвечали бояре, земно кланяясь царю, и в то же время угрюмо косились на патриарха.
«Ишь, слеток! Ведал бы, клобук, свои поповские дела, мало ли их: все монастырские дела и в их землях воровство всякое под его рукой. Так нет! В государское суется, и царь у него, что воск в руках».
А патриарх сидел рядом с царем молчаливый, строгий, с сияющим крестом на груди, а об локоть с ним стоял отрок с драгоценным посохом.
– Так! – с просиявшим лицом говорил царь. – А ты, отче, – обратился он к патриарху, – молись за нас и блюди за делами своим светлым оком. На место отца родного Господь послал тебя на пути моем!
Никон смиренно склонил голову.
– Я слуга Господа моего, и не в меру превозносишь ты, царь, монаха сирого. За тебя же, государыню-царицу и деток твоих я всегда неустанный молельщик, а что до делов государских, так мне ль со скорбным умишком править ими. На то бояре твои поставлены.
Бояре только переглянулись между собой и усмехнулись в бороды. Короткое время на Москве патриарх новый, а они уже слыхали его лисьи речи да узнали волчью хватку.
В эту ночь царь провел время со своей женой, весь вечер потешаясь в терему с сестрами-царевнами и своими детьми.
И каждый боярин делал в своем дому последние распоряжения.
Боярин Морозов, Борис Иванович, мрачный сидел в своей горнице у письменного стола, откинувшись в креслах. Правая рука его лежала на столе, левая на локотнике, и он хмуро глядел на боярина Матюшкина, который теперь походил не на воеводу, а на трусливого холопа.
Он стоял перед боярином, немного нагнувшись вперед, словно боясь своего толстого пуза; лицо его, поднятое кверху, выражало подобострастие, и он говорил, внутренне дрожа за каждое свое слово.
– Ничим-ничего, боярин, вот те крест святой! Чиста твоя боярыня.
Морозов нахмурился, и Матюшкин, словно поперхнувшись, заговорил торопливо:
– Его всяко пытал: и с дыбы, и с кобылы, и длинником, и плетью; огнем жег! Хоть бы что. Опять же девок сенных, что от терема взяли, тож пытал полегоньку. Визжат, а слов никаких… в улику-то. Бают все: для торга ходил, и я так чаю, боярин…
– Чай про себя, – сурово остановил его боярин, видимо просветлев душой.
Матюшкин съежился и угодливо поклонился.
– Так вот! – Боярин подумал и сказал: – Этого англичанина пошли в Тобольск. Пусть там поторгует! Завтра тебе царский указ перешлю. Теперь иди!
Боярин встал. Матюшкин, сгибаясь, приблизился к нему и поцеловал его в плечо.
– А девок я по вотчинам разошлю. Перешли их на двор ко мне, – добавил боярин.
– Как повелишь, государь!
Матюшкин, пятясь, выбрался из горницы и едва дошел до сеней, как пузо его уже лезло вперед, голова задралась кверху, и он медленно, важно поворачивал по сторонам свои масленые глаза.
Боярин Борис Иванович со вздохом облегчения провел рукой по лицу, и под его седыми усами мелькнула улыбка. Но не стало от этого моложе и краше его суровое лицо. Тяжелой поступью он перешел узкие переходы и поднялся по лесенке в терем молодой жены.
А Матюшкин ехал верхом на сытом мерине в высоком седле, что в кресле, и думал про Акульку, не подозревая никакой беды и огорчения…
Молодой князь Петр Теряев-Распояхин проснулся, когда майское солнышко уже играло на небе, быстро вскочил с постели и торопливо захлопал в ладоши.
На его зов в опочивальню вошел невысокого роста, с маленькой головой и широченными плечами мужчина и, ухмыляясь в густую русую бороду, сказал:
– Заспался, князюшка?
– Ай, Кряж! – воскликнул князь. – Да как же ты меня не побудил?
– Батюшка не приказали.
– А он вставши?
– Эй! – Кряж махнул рукой. – Уехавши давно: и батюшка, и братец!
Петр всплеснул руками:
– Что ж ты это сделал! Теперь запозднюсь – что будет!
– Небось! – усмехнулся Кряж. – Ты одевайся только, а я уже все обрядил. Пожди, пошлю отрока!
Кряж вышел, и на место его вошел мальчик с тазом, рукомойником и шитым полотенцем на плече.
Князь поспешно умылся и начал одеваться. Мальчишка стоял разинув рот, и выражение восторга все яснее и яснее отражалось на его лице по мере того, как князь надевал походные одежды.
И было отчего прийти в восторг и не дворовому мальчишке.
В зеленых сафьяновых сапогах, в желтых шелковых штанах и в алом кафтане, стянутом зеленым поясом, молодой, статный, красивый, с курчавой головой и ясным горящим взглядом, Петр был как майский день.
А когда он пристегнул короткий меч к поясу и засунул за него два пистолета, когда на плечо накинул, продев руки, дорогую кольчугу из стальных с золотой насечкой чешуек да взял в руку плеть и блестящий шлем, с ясной, как молния, стрелкой, мальчишка даже вскрикнул:
– Ой, ладно!
Князь весело засмеялся и, кивнув ему ласково, побежал на двор, где Кряж ждал его с двумя оседланными конями.
Сам Кряж оделся тоже в поход, на нем поверх кафтана были из сыромятной кожи латы, железный черный шлем с надзатыльником и наушниками покрывал его голову, за поясом торчало два ножа, за плечами висели кривой лук и саадак со стрелами, а на кисти руки висел шестопер[4] фунтов в семь, а не то и в десять.
Этот Кряж, по прозвищу, а именем Федька, был назначен стремянным к молодому князю, едва тот сел на коня. Без роду без племени, княжеский холоп, он с собачьей преданностью привязался к красавцу юноше и теперь впервые отправлялся с ним в поход.
На дворе толпилась челядь, а впереди всех стоял старик Эхе с красавицей Эльзой и Эдуардом.
– А, вы тут? – радостно сбегая к ним, воскликнул Петр.
– Вышли проститься и пожелать удачи, – вспыхнув, сказала Эльза.
– Привезу тебе подарок, – улыбнулся Петр. – Ну, простимся!
И, обняв Эльзу, он звонко поцеловал ее в обе щеки.
Эдуард крепко обнял его.
– Если будешь в Вильне, – сказал он, – посмотри мастеров тамошних, бают, знатно малюют.
– Кто о чем! А ты, Иоганн, чего хочешь?
Глаза старого рейтара разгорелись.
– С тобой ехать! – воскликнул он. – Да! Почему же мне не ехать? Donner wetter! Каролина плачет! Фи! Эди больной! Ему что. Каролина покойна! Да! да!
Лицо его разгорелось. Он тряс плешивой головой, а седая борода развевалась.
– Да, да! Еду! – повторил он, в то время как челядь смеялась, видя его волнение.
– Папа, – обняла его Эльза, – успокойся, милый! что говорил тебе князь? Ты один тут защитник!
– Раньше! Теперь князь Терентий тут! – не унимался старик.
Петр наскоро поцеловал его, вскочил на коня и поскакал в ворота.
– Догоню! – крикнул ему вслед Эхе.
– Опоздаем! – испуганно говорил князь, гоня коня.
– А ты и не поснедал ничего? – заботливо спросил его Кряж.
– До того ли! О господи! – воскликнул он с отчаяньем, затягивая поводья.
– Не бойсь, княже, поспеем, – успокоил его Кряж.
Толпы народа, спешащего к кремлевским воротам, перегородили им путь, и они принуждены были продвигаться шагом.
Было уже десять часов утра, когда они подъехали к воротам и должны были тотчас спешиться, потому что выезд уже начался.
В воздухе гудели колокола, смешиваясь с нестройными звуками рогов, тулумбасов[5] и барабанов.
Из Никитских ворот медленно выступили конные всадники в медных кольчугах, и в воздухе заколыхались знамена. Всадники проехали; за ними, высоко держа царское знамя с изображением золотого орла, ехал толстый высокий богатырь-знаменосец, а следом конюхи по двое в ряд повели шесть царских коней.
– Ишь ты, – пробормотал Кряж, и его голос слился с радостным криком народа.
Действительно, зрелище было необыкновенное: шесть коней с высокими седлами, покрытые алыми бархатными попонами, фыркая и играя, шли на длинных шелковых поводах.