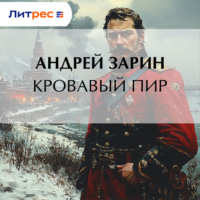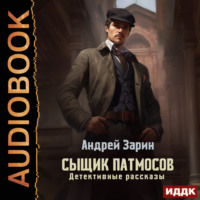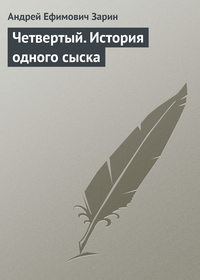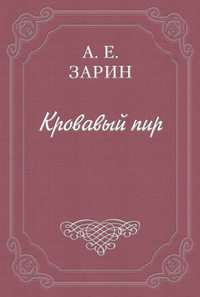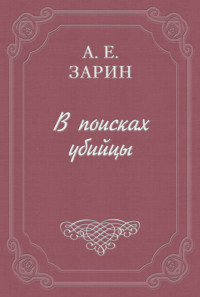полная версия
полная версияНа изломе
Дарья говорила про его силу и богатство, про его молодость и красоту, про его безумную любовь к Анне, заревом вспыхивали щеки молодой княжны, туманились глаза, прерывисто дышала грудь, когда она слушала речи своей обольстительницы. Наступила душная летняя ночь, луна трепетно светила в окошко, запах сирени и акации стоял в воздухе, трелями заливались влюбленные соловьи, и княжна томилась в своей душной горнице, разметавшись на постели. Видела она князя. Он протягивал к ней руки, он говорил о любви. И вставала она утром усталая, измученная ночными грезами. Розовые щеки ее бледнели, вокруг глаз темнели круги, звонкий смех раздавался все реже и реже, и княгиня, с тревогой смотря на дочку, ласково спрашивала ее:
– Аннушка, али тебе недужится? Скажи, ласковая! Лекаря недолго позвать.
– Нет, матушка, я здорова! – тихо отвечала княжна, и голос ее вздрагивал от волнения.
– Пожди, – говорила княгиня, – ужо к деду съездим. Он за тебя помолится. Ишь побледнела как; ровно снег весенний!
Княжна Дарья Васильевна, жена Терентия, усмехалась и говорила:
– Что вы, матушка, беспокоитесь? Просто с жиру бесится об эту пору. Все мы так же изводимся. Погодите, найдется жених, и все как рукой снимет.
Княжна вспыхивала и убегала к себе, а молодая княгиня звонко смеялась.
Как ржа точит железо, как вода капля за каплей долбит камень, так вкрадчивые речи сенной девушки делали свое дело. Анна беспомощно только шептала:
– Да ведь он женатый. Грех!..
– И что за грех человеку по-божески на его любовь ответить? Ведь тебя не убудет от этого, а уж он и любит! – И она передавала его страстные речи.
Не устояла Анна и вышла на свидание к Тугаеву.
Это была ночь безумств. Страсть неудержимой силой охватила Анну. Порывистый Тугаев покорил ее, и она отдалась ему со всей доверчивостью своей невинной души.
Еще сильнее стал мучиться Тугаев, чем ранее от невысказанной любви. Тогда казалась она ему мечтой, недостижимой грезой, а теперь, когда он уже держал Анну в своих объятиях, когда целовал ее глаза, щеки, губы, – не обладать ею было для него мучительной пыткой.
Страшно ему было и за себя, и за жену, и за бедную. Анну, а та, пламенея к нему, горько сетовала:
– На свою погибель встретила я тебя, Павел! Лучше было бы нам не знаться с тобой, чем идти на такое греховное дело.
– Не говори так! Не терзай меня, – ответил он, зажимая ее рот поцелуем, – сил моих нету переносить муку эту!
И нередко их любовные свидания походили на свидания людей, плачущих о дорогом покойнике.
Долго мучился Тугаев и наконец решился. Может быть, не созрел бы так быстро в его уме план, если бы Петр не упомянул про колдуна, а теперь колдун все решил. Смотря в воду под его припевы, Тугаев увидел свое счастье: он стоял под венцом с любимой Анной. А расставаясь, колдун дал ему такого зелья, от которого, когда захочет князь, тогда и станет вдовцом.
И князь мрачно думал: «Увезу и буду хоронить ее ото всех, а там сделаюсь вдовцом и будто найду ее и повенчаюсь» – и при этих мыслях лицо его озарялось мрачной улыбкой. Но, склоняя Анну, он все же не решался поведать ей свои сокровенные думы.
Зачем ей знать? Для чего и ее невинную душу тянуть к Сатане в лапы? Пусть уж лучше он один за свою любовь и несчастье отдаст Дьяволу душу!
На другое утро воплями и стоном огласился терем князя Теряева. Даша завыла первая, а там сенные девушки, а там молодая княгиня и старуха мать.
Из терема исчезла Анна! Нет ее нигде, словно в воду канула.
Князь снизу в горнице у себя услышал крики и плач и только хотел послать наверх холопа, как сама княгиня Ольга Петровна, несмотря на свою тучность, вбежала в горницу и упала князю в ноги.
– Князь-батюшка, – завопила она, – казни меня, старую! Секи мою голову неразумную!
Испуганный князь поднялся с лавки и шагнул к жене:
– Что случилось? Говори толком, старая!
– Позор на нашу голову, срамота на наш дом! – вопила княгиня, не вставая с колен. – Дочушка наша, Аннушка наша, свет очей моих…
– Что с ней? – нетерпеливо крикнул князь.
– Сбежала, – едва слышно окончила княгиня.
Ко всему подготовился старый князь, только не к этому, и удар поразил его, как кистенем в голову. Он упал на скамью, прислонился к стене и застыл в этой позе, бессмысленно вытаращив глаза. Лицо его налилось кровью, и, раскрыв широко рот, он едва переводил дыхание. Княгиня испуганно вскочила на ноги и бросилась к мужу, но он уже оправился, и лицо его стало бело как мел, а глаза вспыхнули как яркие молнии.
– Сбежала! – закричал он не своим голосом. – Ты врешь, старуха! Она утопла, она умерла! Эй, люди! – Голос его раздался громом на весь дом. В один миг горница наполнилась холопами. Уже все знали о происшедшем и, бледные, дрожали от страха.
– Дочь искать! – сказал князь. – Весь сад по травке переберите, весь дом по всем щелям осмотрите, реку обшарьте! Ну!
Слуги быстро скрылись и рассыпались по всему дому.
В ту же минуту в горницу вошли Петр и Терентий.
– Слыхали? – спросил он.
Терентий молча кивнул головой, а Петр только махнул рукой.
– Прокляну ее, если так, – сказал князь, – а вы, вы должны крест целовать, что станете искать ее и обесчестившего нас! Клянетесь?
Терентий и Петр стали на колени и твердо ответили в голос:
– Клянемся и на том крест целовать готовы!
Князь взглянул на жену.
– А ты, старая, иди наверх и на глаза мне не кажись до времени. Стара ты, чтобы учить тебя, а поучить бы надо. Я теперь до царя поеду, ты, Терентий, за людьми пригляди, а ты, Петр, пока что накажи всем, чтобы языками не звонили. Да что, – сказал он с горечью, – все знают, чай!
Он тяжелой поступью вышел из горницы и, казалось, сразу обратился в старика.
Княгиня со стоном поплелась наверх.
Терентий ушел, а Петр бессильно опустился на лавку.
Вчера он был счастлив, а сегодня как пыль разлетелись его мечты.
Мыслимо ли, чтобы князь Куракин отдал дочь свою за него, из опозоренной семьи.
– Ай, Анна!
Глаза его злобно вспыхнули.
Кабы он знал их обидчика!..
А люди тем временем искали по всему дому, по саду, в воде и нигде не находили следов пропавшей княжны.
Как потерянная ходила Дарья и вздрагивала, как испуганный заяц, при всяком оклике. Она боялась взглянуть на Федьку Кряжа, чтобы не выдать себя нечаянным воплем, а Федька ходил везде как ни в чем не бывало и только покрикивал на людишек.
А тем временем верные холопы Тугаева мчали княжну по дороге на Рязань, где на сороковой версте от Москвы стояла одинокая усадьба князя.
Там он думал схоронить княжну до поры до времени – и она, послушная, пораженная случившимся, в полубесчувственном состоянии сидела в тряской колымаге.
XI
Опозоренные
Царь Алексей Михайлович с глазу на глаз выслушал жалобы Михаила Терентьевича, князя Теряева, и скорбно покачал головой.
– Чего же бабы твои глядели, – с укором сказал он, – что допустили такое бесчестие?
– Ох, и не скажу, государь! Придет беда, все виноваты, а до того и в голову никому! Ведь монастырским уставом жили бабы-то у меня. Разве что сноха вот к царевнам на верх езживала, а то никуда! А молю тебя, царь, коли я или дети мои сыщут нашего обидчика, отдай его нам на суд.
– Твоя воля на то, Михайло! – сказал он. – Твоя обида, твой и суд. А теперь вот что, друже, – и голос его принял ласковый тон, – не говори ты никому про такое дело зазорное, а говори, что сгинула, что злые люди скрали. Клич кликни, чтобы искать кто вызвался. И опять, – окончил он, – нечто тебе ведомо, что она вольной волей убегла?
– Не, государь! – ответил князь, и лицо его просветлело.
– А коли нет, так и на имени твоем порухи нет. Жаль девку, а коли найдется, все ладом кончится. Обидчика ищи, отдам его тебе со всеми животами! – И царь отпустил князя.
Он вернулся домой успокоенный и тотчас позвал к себе сыновей, запершись в горнице, они с час времени толковали про срамное дело и потом, уговорившись, разошлись.
В тот же день ввечеру по городу ходили бирючи[20] от князя и громким голосом выкрикивали:
– Князя Теряева дочку скрали, и тому, кто вора укажет и ее сыщет, от князя награда положена в сорок рублев!..
– Князя Теряева дочку скрали, слышь! – пошли по Москве толки, и все сочувственно вздыхали и жалели старого князя.
Друг за другом ехали к нему князья и бояре и утешали его.
Князь Голицын, первый щеголь того времени, зять молодого князя Терентия, сказал ему:
– Ты не хмурься, царь сказал, что нет порухи на вашем имени, и я не в обиде, искать же сестру не буду!
Терентий презрительно взглянул на него.
– Честь тебе и роду вашему, – сказал он гордо, – что породнились с нами, а ты не в обиде!
Голицын вспыхнул:
– Наш род старше вашего!
– Да ты глуп больно! – ответил Терентий и отошел от него.
Князь злобно посмотрел ему вслед и промолвил:
– Добро! Попомню я тебе это!
Петр рыскал по городу, мыкая свое горе; ему казалось, что теперь Катерина Куракина не посмеет и думать о нем. По виду только все сочувствуют, а сами завтра же загнушаются ими.
Рыская по городу, он заехал и в полк.
Там он встретил Тугаева. Петру показалось, что Тугаев побледнел при виде его и словно бы хотел скрыться.
«Началось!» – подумал Петр и с горечью сказал:
– Али, Ильич, меня чураться хочешь?
– Что ты? Что ты? – испуганно произнес Тугаев. – Я к тебе еще больше с дружбой своей. Беда у вас?
– Ой, беда! – ответил Петр, опускаясь на лавку. – Коли бы встретил я обидчика нашего, кажись, руками бы горло перервал ему!
Тугаев вздрогнул.
– Серчает батюшка? – тихо спросил он.
Петр махнул рукой.
– Чего ж? Нешто сердцем горю помочь? Известно, сторожей передрали, девок тоже, да что в этом!
– А ее… – Тугаев запнулся, – сестру-то твою… прокляли?
– Нет, – ответил Петр, – может, она силком взята! Разве можно такое на душу брать! Ты чего? – изумленно спросил он Тугаева, который вдруг бросился ему на шею.
Тугаев не мог совладать со своей радостью при этой вести. Всем ведомо, что не будет счастья и покоя, если проклянут отец с матерью, и он замирал от страха за любимую Анну. И вдруг – нет этого страха!
– Брат ты мой названый, друг любезный, – заговорил он, обнимая Петра, – и горько мне за вас, и хотел бы я помочь вам в беде вашей!
Петр просветлел.
– Ищи сестру! – сказал он и, опять затуманившись, прибавил: – А мне горе какое! Тебе как брату родному поведаю! – И он рассказал про свою внезапно вспыхнувшую любовь к княжне Куракиной и про свои разрушенные надежды.
– Их род и так стариннее нашего: местами не потягаешься, а тут еще как-никак, а все ж поруха на имени!
Тугаев вспыхнул.
– Николи этого быть не может! – громко сказал он. – Слышь, царь обелил вас, а он куражиться будет, нет, Петр, не бойся! Хочешь, я сватом пойду к князю?
Петр повеселел.
– Сегодня узнаю!
И вечером он виделся с княжной и, жарко целуясь, говорил с ней.
– Что же? Не отречешься от меня за такой срам в доме нашем?
Княжна нежно прильнула к нему.
– А в чем срам? И батюшка говорит, что грех да беда на кого не живут! Слышь, твоего отца, сказывают, в детстве скоморохи скрали? Правда?
– Правда, моя рыбка! – ответил радостно Петр и спросил: – Так говорить батюшке, засылать сватов?
– Шли! – прошептала она, жмурясь от его поцелуев.
И Петр повеселел.
Терентий по-иному взглянул на это дело, поразившее его ужасом. Он увидел в этом перст Божий, наказующий их за отступничество, за никонианство поганое. И в этом мнении его укрепили Морозова и Аввакум.
– Со всеми такое будет, – говорил Аввакум с пророческим жаром, – иному позор, иному болезнь тяжкая, смерть, иному пожар или увечье, а всем голод, мор, смятение! Идет антихрист и несет с собой печали и скорби, а Господь распаляется гневом! Так-то, миленький! – окончил он и ласково прибавил: – А ты в семье своей за всех молельщик, молись за их пакостность и проси у Господа отпущения им, а сам исподволь, полегонечку наущай их, указуй, наставляй!
И Терентий, вернувшись домой, с жаром молился, чтобы Господь отпустил их роду вину отступничества.
– Не ведали, что творили! Отпусти им, Господи! – твердил он, усердно отдавая поклоны.
В то же время на службах и на дворе княжеского дома шли непрерывные разговоры. Говорили о наказанных холопах и девках, говорили об объявленной княжей награде и обсуждали возможность побега или кражи.
– Известно, убегла, – шептали холопы, – нешто такую девку скрадешь? Да она крика такого поднимет! Ух!
– Ну, вы! – покрикивал на слуг дворецкий. – Не больно языками-то трепите. Того гляди, прижгут их вам!
Антон побежал в общую службу и сказал:
– Перька, Мишук, идите в клеть и Дашку волоките. Князь ей снова допрос чинить хочет!
– Опять драть, значит! – вздохнув, сказал Кряж.
Петька и Мишук вышли, взяв ключ от Антона, и через несколько минут вернулись бледные и дрожащие.
– Что ж одни? – нетерпеливо спросил их Антон.
– Нету ее, – пробормотал Петр, – убегла!
– Как?
– Убегла! Стенка подкопана, и ее нет! Все обшарили!
Антон холопнул руками о полы своего кафтана и опрометью бросился к князю.
– С чего ж ей бежать было? – заговорили промеж себя холопы.
– Не иначе как ботожья побоялась!
– Сказал! Потому бежала, что пособницей княжне была, вот и сказ весь.
– И будет же ей! – пробормотали более робкие.
В избу снова вбежал Антон.
– Погоня! – закричал он. – Петька, Мишка, Осип, Влас и ты, Григорий, все на коней и по разным сторонам. Чтобы до ночи была она тут. Князь приказал!
Холопы быстро выбежали и стали седлать коней.
Князь ходил по горнице большими шагами и то и дело схватывался за волосы.
Позор! Теперь уже нет сомнения, что княжна убежала, коли объявилась и ее помощница.
– Нашли? Привели? Вернулся кто? – спрашивал он у Антона через каждые пять-десять минут, на что Антон неизменно отвечал:
– Нет еще, государь!
Поздно ночью вернулись друг за другом посланные в погоню холопы. Вернулись усталые, на измученных конях, все с одной вестью, что нигде и следа Дашкиного не видно. И нещадно бил их за эту весть батогами разъяренный князь, бормоча:
– Все вы, собаки, заодно с ними были!..
XII
В Коломне и городе
Было начало июля 1660 года. Царь Алексей Михайлович проснулся веселый и радостный. Ясный день еще более развеселил его.
– Ишь, благодать какая, Господи Боже мой! – сказал он своему постельничему. – Небо-то, что лазурь. Кажется, видишь самого Господа и ангелов, славословящих Его! Ишь, солнышко!
И он с улыбкой зажмурился от жгучего летнего солнца.
Отстояв службу и выслушав по обычаю доклады, он усмехнулся и сказал окружавшим его боярам:
– Не можем здесь оставаться! Из терема на волю хочется. Чтобы завтра, Борис Иванович, – обратился он к Морозову, своему шурину, – нам в Коломенское ехать. Снаряди поезд!
Старик Морозов низко поклонился.
– Как милость твоя прикажет, – ответил он.
Царь кивнул.
– До сентября уедем! Пусть и царевны едут с нами, чего им тут киснуть. В городе останутся… – Царь оглядел бояр и сказал: – Ну ты, Михайло, у тебя горе, так оно и на руку. Не печалиться тебе на наших глазах. Да еще Куракины!
Куракины и Теряев поклонились.
– А сынов твоих возьму беспременно! Петр на охоте первый товарищ! Без него никак нельзя. Ну да и к Терентию приобык я тоже. Умный он, рассудительный, и вести с ним беседу зело радостно.
Лицо старого князя осветилось улыбкой. Похвала его детям невольно радовала его.
– С царем в Коломенское поедете, – сказал он сыновьям, стоявшим в сенях, – царь, вишь, хвалил вас!
Терентий молча кивнул. Ему было безразлично. Князь же Петр затуманился. В эти летние ночи, ночь в ночь, он привык видеться с княжной, и теперь ему тяжко было лишить себя этих свиданий.
В ту же ночь, расставаясь с княжной, он жаркими поцелуями осушал слез с ее лазоревых глаз.
На другое утро все в Москве были в хлопотах. Готовился царский поезд, и старик Морозов выбивался из сил, зная, как строг государь ко всякому порядку в церемониях. Подбирались кони, подбирались колымаги, скороходы, стрельцы, вершники, поездная прислуга.
Все должно было быть чин чином, на своем месте, в своем уборе, с должной торжественностью, как в церковном обряде.
Суетились и те, которые должны были сопровождать царя, и те, которые оставались. Одни снаряжали свои поезда, другие отдавали распоряжения по дому, третьи хлопотали о порядке и торжественности царских проводов.
Князь Теряев с неизменным Кряжем снарядил весь свой охотничий убор и потом поехал в свой полк передать временное начальство над ним другому.
Приехав в полковую избу, он вызвал тысяцкого и сказал ему:
– Еду я, так за порядком князь Тугаев присмотрит!
– А коли и он уехал? – ответил тысяцкий.
– Куда, когда? Надолго?
– А не сказывал. Знаю только, что на вотчину, а на какую, неведомо. Так спешно уехал, что даже и людей, сказывают, не взял с собой. Одного Антропку стремянного, и все!
«Диво! – подумал Петр, выходя из избы. – Куда ему так спешить надо было, что и мне не сказал. Ну, ужо вернется, скажет!»
На дворе он увидел немца Клинке и поручил ему надзор за полком.
– Карошо, – ответил тот, – я и так им муштру делайт!
– Ну, делай им, что хочешь, немец, – сказал Петр, – лишь бы они сыты были!
Длинной пестрой лентой потянулся царский обоз необыкновенной роскоши и пышности, бежали скороходы рядами, за ними ехал отряд стрельцов и шестериком цугом запряженная золотая колымага, в которой ехал царь. Она окружена была вершниками и отрядом стрельцов с блестящими бердышами. Дальше на конях ехали ближние царя, а там опять скороходы и конные стрельцы и колымага царицы, позади которой верхом на лошадях ехал женский штат: постельницы, златошвейки, ткачихи, сказительницы, портомойки; дальше снова скороходы и, уже без конных, стрельцы, в одной колымаге – царские сестры, красавицы Ирина и Анна Михайловны. Царским сестрам невместно было выходить замуж за своих бояр, а за иностранцев, нехристей, выдавать было не в обычай, и они, пышные, цветущие, обречены были на девичество, на тяжкое теремное житье, про которое сложено так много грустных песен.
А за ними уже тянулись колымаги иных боярынь и, наконец, длинные повозки с шатрами, разным скарбом и целой кухней на время переезда.
Поезд двигался медленно, вызывая изумление и восторг народа, который при приближении царской колымаги валился на колени и падал ниц на землю, не смея поднять головы.
Выехав из Москвы, царь вышел из колымаги, сел на коня и, окруженный свитой, выехал вперед, а поезд продолжал двигаться по дороге, подымая пыль, гремя, звеня своими металлическими частями и сверкая на солнце.
Вот по знаку царицы сенные девушки затянули песню. Она звонко полилась в ясном воздухе и вздымалась под самое небо.
Царь прислушался к ней и тихо засмеялся.
– Хорошо на свете жить! – с умилением произнес он.
Трое суток двигался поезд к Коломенскому, делая привал по дороге на целую ночь. Разбивались драгоценные шелковые палатки: для царя, для царицы, для царевен; вспыхивали костры, суетились в темноте люди, и царь наслаждался картиной тихой летней ночи.
Наконец приехали в село Коломенское, и потекла обычная дворцовая жизнь.
В четыре часа вставал царь и слушал заутреню, потом выходил на крылечко и здоровался со своими боярами, В эту пору должны были все уже быть налицо, и кто опаздывал, того Тишайший, шутки ради, купал в своем озере, называя его Иорданью. Тут же изредка выслушивал он челобитные, тут же, случалось, устраивал потешный бой, а иногда, вместо боя, при нем тут же батогами наказывались ослушники.
Потом царь шел слушать обедню, а там садился обедать и ложился на час времени спать.
После обеда выезжал он в поле с соколами, а ввечеру играл в тавлеи[21], слушал сказочников или шел в терем погуторить с женой или сестрами.
Так тихо и мирно протекала его жизнь, а в это же время вся Россия колыхалась едва сдерживаемым волнением. По иным городам и селам стон стоял от сотен людей, выводимых на правеж, и в самой Москве кипело недовольство. Князь Куракин виделся с Теряевым и говорил ему:
– Что-то неладно у нас, соседушка, на Москве!
– А что? – спрашивал Теряев, весь погруженный в свое семейное горе.
– Да что! Воров развелось гибель! Письма разные подметные что ни день пристава по десятку приносят, голытьба шумит.
– Отряди каждому приставу десять стрельцов. Путь ходят да гультяев батогами бьют, – спокойно ответил Теряев.
Куракин угрюмо покачал головой.
– Эй, чует мое сердце, что быть беде!
– Ну, чего там!
Действительно, в Москве уже что-то делалось. На Козьем болоте от палачей отбили двух преступников, не так давно разнесли царский кабак, всюду собирался народ, больше гультяи, голытьба кабацкая да посадские, и о чем-то шумели. Приставы, врываясь в такую толпу, хоть и ругались и грозили палками, но уж в ход их пускать боялись, и приказные дьяки с опаской ходили по улицам.
Дьяк Травкин, тот прямо поселился в Разбойном приказе и, напиваясь от страха пьяным, говорил боярину Матюшкину:
– Не, боярин! Я знаю этот воровской народ. Кого-кого к ответу потянут, а нас первыми. Помнишь Плещеева?
– Тьфу! Язык твой паскудный! – вскрикивал, бледнея и вздрагивая, боярин, а дьяк хихикал:
– Так-тось! А теперя только и говора на Москве: ты, да Милославский, да гость Шорин. Куракину вкатят тож! Ну так я уж тут лучше. Авось за меня наши молодцы заступятся, да опять и застенок претит им, прощелыгам! Ха-ха-ха!
– С нами Бог, – говорил, качая головой, толстый Матюшкин. – Тебе, дураку, эти страхи с пьяных глаз мерещатся. Где им супротив нас идти?
– А тогда шли?
– Тогда! За то и было им!
– Ну и Плещееву было тоже, и иным досталось!
– Тьфу, тьфу! Наше место свято! – плевался Матюшкин.
XIII
Перед грозой
Гроза надвигалась.
В ночь на 24 июля на Москве-реке за рыбным рынком в рапату Кузьмы прокаженного собирались разные люди, один вид которых внушал опасение. Были это все статные, здоровые молодцы, кто в кафтане, кто в простой сермяге, кто в поддевке; сидели они вкруг длинного стола с чарками водки пред собой, но не было подле них женщин, и не играли они в зернь, а вели тихую беседу.
Во главе стола сидел знакомый нам Мирон, прозванный Кистенем. Волосы его поредели и поседели, но в лице сказывалась прежняя удаль разбойника, только время наложило на него печать угрюмости. Рядом с ним по обе стороны стола сидели Никита Свищ, Ермил Косарь, Семен Шаленый, Федька Неустрой, Панфил и Егорка, а далее сидели посадские с разных концов Москвы, несколько рядных людей и просто кабацкая голытьба. Мирон говорил:
– Теперь до нас самая пора. Бояре разъехались, людишки их без дела ходят. Ратные люди пьянствуют. Теперь и начинать надо!
– Покажем им кузькину мать! – вскрикнул Неустрой. – Вспомнит боярин Егор Саввич мою ногу!
Панфил мрачно стукнул огромным кулачищем по столу и сказал:
– Уж помянет и меня за все добро, за холопское житье, за плети и батоги!
– Пустое, – перебил их Мирон, – Матюшкин мой.
– Бросьте! – сказал высокий чернобородый посадский. – Полно перекоряться, кому кто достанется. Лучше разберем, как нам дело вести.
Старик в чуйке, сверкнув глазами из-под седых бровей, ответил:
– Чего ж и разговаривать? Дело ясное! Все уж налажено: подымать народ с разных концов да и шабаш!
– А где сбираться? А куда идти?
– А сбираться, – ответил тот же старик, – на Красной площади, у лобного места, да на Козьем болоте, да в Охотном ряду; а идти прямо на дворы к Матюшкину, да в гости к Шорину, да к Милославскому.
– Пусть так и будет! – сказал Мирон. – Ладно надумал, Михеич. Только сговориться надо, чтобы все враз было. Завтра этим делом и заняться. Ты, Михеич, – кивнул он на старика, – народ к Охотному ряду соберешь. Ты, Сидор Карпыч, – сказал он посадскому, – на Козье болото, а я на Красную площадь, ее себе возьму. Вы, – кивнул он на своих приятелей, – завтра весь день по кабакам, кружалам да рапатам звоны звонить будете! И все чтобы на двадцать пятое к утру на места собирались. Двадцать пятого и ударим!
– Ну ин! – сказал старик. – Вот и уладились.
– И жарко им будет, волчьей падали, – сказал один из сидящих, – я уж этому Шорину попомню!
– Всем есть что им попомнить, – сказал хмурый мужичонко, – меня вон на правеже семь раз били. Не знаю, как душу не выбили.
– Никому, брат, теперь не сладко. Всякому и без соли солоно.
И они продолжали говорить между собой о тяжелых временах этого царствования. Жить было правда тяжело.
Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Военные дела требовали беспрестанного пополнения ратных людей. Служилых людей то и дело собирали и отправляли на войну. Они разбегались. Сельские жители постоянно поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук. Народ был отягчаем налогами и повинностями. Поселяне должны были возить для продовольствия ратных людей толокно, сухари, масло. Торговые и промышленные люди были обложены десятой деньгой, а в 1662 году на них наложена была и пятая деньга. Налоги эти производились таким образом: в посадах воеводы собирали сходку, которая избирала из своей среды окладчиков; эти окладчики прежде окладывали самих себя, а потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими посадскими, причем происходили бесконечные споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта пятая деньга, а финансовая реформа, до которой додумалось правительство, желая поправить свои дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, стремясь скопить как можно больше серебра для военных издержек, приказало всеми силами собирать в казну ходячую серебряную монету и выпустить вместо нее медные копейки, денежки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно десятую и пятую деньгу не иначе, как серебром, ратным же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало указ, чтобы никто не смел подымать цены на товары и чтобы медные деньги ходили по той же цене, как и серебряные. Но это оказалось невозможным: стали на медные деньги скупать серебряные и прятать. Этим поднялась цена на серебро, а затем на все товары. Служивые люди, получая жалованье медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства медной монеты тотчас искусила многих: головы и целовальники из торговых людей, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою собственную медь и делали из нее деньги; сверх того, денежные мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебряники, медники делали тайно деньги у себя в погребах и выпускали в народ; таким образом медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельной монеты на 620 тысяч рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году, и по первое марта 1660 года за рубль серебряных денег давали два рубля медью, а летом 1662 года возвысилась ценность серебряного рубля до восьми рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты; им отсекали руки и прибивали к стене денежного двора, заливали растопленным оловом горло. Но тут распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма; их прибивали к воротам и стенам.