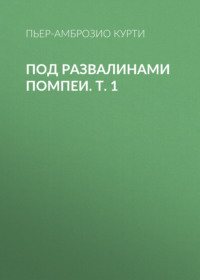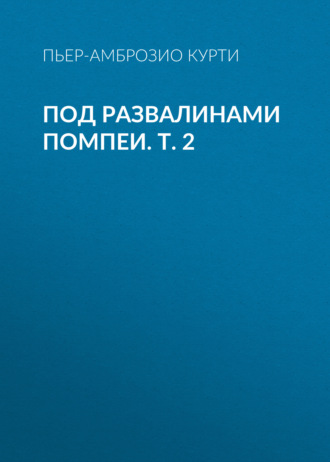 полная версия
полная версияПод развалинами Помпеи. Т. 2
– В этом-то и заключается тайна ее влияния на него, – заметил тут Овидий.
– Вот так образцовая парочка, нечего сказать! – воскликнул Агриппа.
– Хотите знать еще больше? – продолжал увлекшийся поэт.
– Рассказывай, рассказывай нам все, Овидий, – просил его Агриппа, – я готов познакомиться с героическими деяниями нашего добродетельнейшего деда, старающегося выказать себя Катоном по отношению к своей дочери и внукам.
– Так ты еще кое-что знаешь о нем? – спросила в свою очередь Юлия, желавшая вызвать поэта на большую откровенность.
– Я хотел вам сообщить, что на Палатине создана новая должность – директора удовольствий, для которого найдено остроумное и громкое название Rationalis voluptatum.
– Ты клевещешь, Овидий, в его лета это невозможно: ему ведь почти семьдесят лет.
– Очень возможно, Агриппа. Анакреон был еще старше летами, когда увенчанный розами и с полным кубком в руках пламенел к Самию Батиллу. Ты, начитанная Юлия, несомненно, помнишь стихи того Венозина, который часто посещал ваш дом и был так дорог цезарю. Послушайте их:
Анакреон, – молваГласит о том, – однаждыЛюбовью к СамиюБазиллу воспылал;И ту свою любовьОн с лирою в рукахНескромной песнеюНередко воспевал.– А как называется тот счастливец, который получил такую должность? – спросила Юлия. – Об этом я еще ничего не слышала.
– Евфем.
– Откуда ты узнал об этом?
– От его матери, Ульпии Афродиты, которая сообщила мне об этом по секрету, но притом с заметной гордостью.
Такие разговоры вели наши сотрапезники, и эти разговоры, каковы бы они ни были, свидетельствовали о той старой истине, что «в вине заключается истина».
Вануччи, почтенный автор «Истории древней Италии», подвергнув беспристрастному анализу жизнь и поведение уж слишком прославленного государя, приходит к следующему заключению о нем:
«Вот почему граждане, которым была известна жизнь старого цензора (Августа), не обращали внимания на его слова и советы, а оставались развращенными по его же примеру. Отсюда оказывались бесполезными и сами законы против роскоши пиров, против прелюбодеяния и разврата, – законы, имевшие целью охранить семейный порядок и возвратить общество к прежним добрым обычаям и нравственности».
Как бы то ни было, в то время повсюду распространенного и всеми средствами поощряемого шпионства, когда, как мы слышали, и сами стены являлись доносчиками, было очень опасно, особенно в тех домах, над обитателями которых бодрствовала ненависть императрицы, высказываться с такой ужасной откровенностью о жизни Августа и его супруге; таким легкомысленным людям, каковы были Агриппа Постум и младшая Юлия, необходимо было иметь около себя кого-нибудь, который мог бы удерживать их от болтовни; но – увы! – даже и старый поэт скоро забыл в вине ту добродетель, которую за час до того рекомендовал своим молодым друзьям.
Эта прелюдия уже показывала, во что мог превратиться банкет. Сладострастная Юлия, остававшаяся все это время на груди у брата, все более и более забывалась в этом положении, а Агриппа, в свою очередь, полуохватив ее стан, нежно ласкал ее и вплетал цветы в ее волосы.
Вдруг молодой человек попросил Овидия наполнить вновь чаши и сказал ему, когда он исполнил его просьбу:
– Давно уже, о Публий Овидий Назон, я не наслаждался твоими песнями, которые для меня слаще песен Анакреона и пламеннее песен лесбийской Сафо.
– О, повтори нам некоторые из твоих «Героид», – сказала в свою очередь Юлия.
– Нет, – возразил Агриппа Постум, – выбери что-нибудь из песен любви: это самая благоприятная минута, чтобы слушать их.
– Пусть будет так, – согласилась Юлия.
– Так как мы находимся еще за столом, то послушайте элегию «На пиру».
И Овидий начал декламировать эту нескромную элегию с таким жаром, с таким страстным выражением, что пламя страсти стало овладевать молодыми людьми, и без того расположенными к чувственности вследствие значительного количества выпитого ими вина.
Овидий декламировал:В триклиниуме встретимМы мужа твоего;О, если б был пир этотПоследним для него!Мне ль одному мученьеВ любви к ней суждено?Когда – увы! – жать рукуЕй нежно всем дано?Как бы желая подкрепить эти слова действием, Агриппа страстно пожал нежную руку сестры своей. Юлия отвечала ему столь же страстным пожатием.
А Овидий продолжал декламировать свое эротическое произведение.
Каждая его строфа давала новую пищу огню, охватившему его молодых друзей; они с жадностью большими глотками впивали острый яд, заключавшийся в каждой строчке элегии. Пламя страсти выступило на их лицах, лилось по всем их жилам, все их тело наполнялось сладострастием.
А поэт продолжал:В мои черты вглядись ты,Что молча говорят;И если твои взорыОтветить захотятМне робким хоть приветом,Тогда прочтя о том,Что на столе я этомНачну писать вином.И эту фантазию поэта Агриппа Постум тотчас осуществил: смочив свой палец в полном кубке соррентского вина, который стоял перед ним, он начертил на своей белоснежной льняной салфетке: «Люблю тебя».
Затем, склонившись к сестре и заметив, что она следила глазами за его рукой, когда он чертил эти слова, Агриппа своим взглядом еще сильнее выразил ей то преступное чувство, которое волновало его в эту минуту. Быть может, Юлия уже разделяла это чувство; она ответила ему пламенным вздохом, вырвавшимся из ее груди, и подумала: «Ах, зачем Агриппа брат мне?»
Весь занятый содержанием декламируемой им элегии и опьяненный не менее своих сотрапезников, Овидий ничего не видел, ничего не подозревал и продолжал с еще большим воодушевлением:
Ты не должна супругуПри мне колен толкатьИ нежной своейРукой его ласкать.А если поцелуешь,То вслух скажу всем я,Что ты уж с давних порЛюбовница моя.Агриппа Постум не мог более сдержать себя. Он схватил обеими руками красивую голову Юлии и, приподняв ее к своим дрожавшим губам, как безумный стал покрывать ее горячими и беспрерывными поцелуями. Она не только не оказала никакого сопротивления, но, напротив, страстно охватила своими руками шею необузданного брата.
А несчастный поэт, ум которого был помрачен винными парами и поэтическим энтузиазмом, не переставал декламировать свои вольные песни и не замечал, что молодые люди перешли уже всякую границу приличия и стыдливости.
Пламя страсти охватило все их существо, и они почти не слушали того, что декламировал им Овидий: их возбужденная чувственностью фантазия рисовала им самые соблазнительные образы. Перед ними открывалась пропасть преступления, в которую они готовы были броситься, не думая о последствиях.
Молодые люди пришли в себя лишь в ту минуту когда поэт окончил свою фатальную элегию. Они оба аплодировали ему; но этими аплодисментами они одобряли скорее эффект, произведенный в них самих Овидиевой элегией, нежели самого поэта и его стихотворение.
Побежденные обманчивой и увлекательной страстью, они не могли уже остановиться на скользком пути.
Едва Овидий окончил декламировать, опьяненная Юлия вскричала:
– Выпей чашу вина, поэт любви, выпей еще одну; вино, как говорит божественный Платон, возбуждает и поддерживает в нас ум и добродетель; а потом спой нам свою песню о дочери Эола, Канаксе.
Бесстыдная женщина имела смелость прибегнуть к авторитету греческого философа ради самой бесчестной цели, изменяя самый смысл его слов, и говорить о добродетели, думая о преступлении.
Так как о том же самом думал и Агриппа, то он понял предложение своей сестры и в виде благодарности поцеловал ее.
Но не понял смысла просьбы Юлии Овидий. Очевидно, в ту минуту рассудок его был парализован, как он впоследствии сам сознался, почему он и не догадался о преступном намерении, с каким бесстыдная жена Луция Эмилия Павла обратилась к нему с упомянутой просьбой; иначе, сорвав со своей головы венок, он напомнил бы молодым забывшимся людям требования нравственности и удержал бы их от преступления.
Исполняя приказание Юлии, Овидий разом осушил чашу крепкого вина, растущего на вулканической почве Соррента, и к удовольствию сестры и брата начал декламировать стихотворение, которое им хотелось послушать.
Расскажу тут в двух словах историю Канаксы, быть может, неизвестную некоторым из читателей.
Канакса, дочь бога ветров Эола и Энареты, влюбилась в своего брата Макарея и, соблазненная им, вышла тайно за него замуж. От этого брака родился мальчик; брошенный своей кормилицей в поле, он криком своим открыл свое происхождение Эолу. Бог Эол, приведенный этим открытием в страшный гнев, бросил плод преступной связи своих детей на съедение собакам, а дочери своей послал нож с тем, чтобы она сама себя заколола. Макарей же спасся бегством от заслуженного им наказания и укрылся в Дельфах, где поступил в число жрецов храма Аполлона.
В своей героической поэме Овидий поместил послание, написанное несчастной женщиной к обожаемому ею брату; это-то место поэмы просила Овидия продекламировать Юлия. Любовь дочери Эола была изображена поэтом такими живыми красками и таким трогательным языком, что при том настроении, в каком находились в ту минуту его слушатели, слова поэта еще более воспламеняли их, возбудив в них чувственность до высшей степени.
Когда поэт дошел до того места, где несчастная Канакса говорит о том, какие душевные мучения вынесла она при рождении дитяти от преступного брака, Агриппа Постум воскликнул подавленным голосом:
– Довольно, Овидий, довольно! Ты меня душишь, ты меня убиваешь!
Агриппа не хотел слушать конца легенды о печальной судьбе дочери Эола: увлеченный непобедимой страстью, он не переставал прижимать к своей груди сестру, как будто в нем возродились все чувства Макарея.
Он сильно щелкнул пальцами.
Вошли служители.
– Потушите лампы, – приказал он им, – здесь задыхаешься от жары, – и, выпучив глаза, он с нетерпением смотрел, как невольники исполняли его приказание.
Лампы были потушены. Когда наступила темнота и служители вышли из триклиниума, Агриппа проговорил дрожащим от сильного волнения голосом:
– Теперь мы отдохнем.
Глава девятая
Песни и горе
ГОРЕПотемки были очень кстати для добродушного поэта, чувствовавшего себя сильно возбужденным и почти опьяненным от излишне выпитого им вина, действие которого усилило и утомление, причиненное поэту экзальтированной декламацией стихотворений; поэтому он с большим удовольствием принял приглашение к отдыху, сделанное ему молодым амфитрионом.
Но сильный стук в висках мешал ему восстановить свои силы благодетельным сном. Хотя он свободно растянулся на триклиминации (обеденном ложе), но ему пришлось пролежать долго, прежде чем погрузиться в тот крепкий сон, каким часто засыпает опьяненный человек.
Увлекательные видения сменялись в его разгоряченной голове. Хотя в комнате было темно и он лежал с закрытыми глазами, но он видел красивых танцовщиц, нарисованных на потолке столовой искусной кистью художника в самых живых и соблазнительных позах; их сменила та изящная девушка, которая являлась на банкет, но должна была тотчас же уйти по приказанию Агриппы; воздушная и полная грации, она, казалось поэту, прижималась к его груди, как бы желая выразить этим свою благодарность за его внимание к ее красоте и за высказанное им сожаление, что ее так скоро удалили из столовой; затем перед ним предстал еще более совершенный образ прелестной жены Луция Эмилия Павла, напоминавший поэту ее мать и те блаженные минуты, какими дарила его незабвенная Коринна. Тут он преодолел свою усталость, открыл глаза и, привстав со своего ложа, посмотрел в сторону Юлии с надеждой разглядеть дорогие ему черты дочери Августа.
В эту минуту ему показалось, что вокруг него не царила та тишина, какая должна была бы быть. Сделав над собой усилие, он стал прислушиваться, и до его слуха долетели тихие, долгие поцелуи и неровное, беспокойное дыхание.
Он приложил свои руки к глазам, как бы желая прогнать начинавший было одолевать его сон, и стал прислушиваться внимательнее прежнего; тут как молнией озарило его ум, и в нем мгновенно родилось подозрение, что в его присутствии совершается преступление.
Увы! Это подозрение было основательно…
– Что вы делаете, несчастные? – вскрикнул вдруг поэт вне себя.
Но едва лишь были произнесены эти слова, как двери столовой отворились и на их пороге показался невольник, державший в руке факел, осветивший всю комнату, и поэт увидел сцену, делавшую излишним всякий ответ со стороны Агриппы и Юлии на вопрос, предложенный им Овидием.
Юлия находилась в объятиях Агриппы в том виде, в каком богиня Диана была однажды застигнута Актеоном.
Когда невольник, опустив медленно факел, окинул своим взором беспорядок, царивший в триклиниуме и бесстыдную сцену, все трое смогли узнать в нем Процилла.
– Кто звал тебя? – зарычал на него Агриппа, прикрывая второпях одеждой голое тело Юлии.
– Мне показалось, что меня звали, – отвечал скромно невольник, собираясь уйти из триклиниума.
– Зажги лампады и уходи.
Затем настала мертвая тишина, так как никто не хотел открыть рта в присутствии невольника, боясь усилить против себя улику и без того слишком сильную, а развратная внучка Августа между тем оставалась под защитой объятий своего нового Макарея.
Когда наши сотрапезники остались одни, Овидий, сжимая в отчаянии руки и тоном, полным того же чувства, прервал молчание, воскликнув:
– Да будут прокляты мои песни, прокляты мои глаза, видевшие позор; мы все погибнем!
– Нет еще! – отвечал решительным и злым тоном Агриппа Постум, сопровождая это восклицание соответствующим жестом; вслед за этим он позвал к себе своих слуг.
Явились три невольника.
– Поскорее призвать ко мне Клемента!
– Отчего ты не удалил из Соррента негодяя Процилла, как это я тебе советовала? – спросила у брата Юлия, не скрывавшая своего смущения и страха.
– Я послал его в Помпею к Марку Олконию, прося его удержать у себя эту тварь несколько дней и даже, если надобность укажет, запереть его в ту яму, где содержит он своих провинившихся невольников; но эта тварь, вероятно, вместо того, чтобы отправиться в Помпею, остался в Сорренте, чтобы шпионить за нами.
– Вот каков был дар Ливии! Понял ты теперь его значение? – воскликнула Юлия.
Овидий во время этого разговора оставался безмолвным под тяжестью горя, причиненного ему происшествием, которое он сам неосторожно вызвал своими соблазнительными песнями, которого он был невольным очевидцем и за последствия которого теперь страшился.
Молодой невольник, называемый Клементом, с которым читатель уже познакомился в Риме, в доме Луция Эмилия Павла и на вилле Овидия, и который отличался таким поразительным сходством со своим господином, превосходя его, быть может, умом, явился вскоре в триклиниум.
Поспешив к нему навстречу, Агриппа проговорил:
– Клемент, с этой минуты ты свободен.
Невольник удивленными глазами посмотрел на своего господина и прошептал:
– Мой повелитель…
– Но вот под каким условием, – продолжал Агриппа. – Ты знаешь садок, где содержатся мурены?
– Знаю.
– Ты помнишь, что Ведий Поллион, бывший владелец этой виллы, от которого она перешла к Августу, приказал однажды бросить на съедение этим рыбам одного из своих невольников?
Клемент побледнел. Такое вступление показалось ему не особенно ободряющим: ему хорошо были известны капризы и жестокость тогдашних господ. Он тотчас подумал, не провинился ли в чем-нибудь таком, что заслуживало бы такого ужасного наказания.
– Отвечай же! – сказал строго Агриппа.
– Я слышал о происшествии от слуг.
– Мурены жаждут человеческого мяса, слышишь, Клемент?
– Чьего, о господин? Назовите имя.
– Процилла.
При этом имени радость сверкнула в глазах Клемента, никогда не скрывавшего своего отвращения и своей ненависти к невольнику, явившемуся из Рима в виде подарка от Ливии Друзиллы. Эти чувства Клемента к Проциллу были хорошо известны и Агриппе Постуму, что заставило его в данном случае обратиться к своему любимцу. Клемент, желая убедиться, насколько серьезно намерение его господина, спросил:
– Тотчас ли должен я исполнить твое желание?
– Не теряй ни минуты.
Боясь перемены в мыслях своего господина, Клемент хотел уже повернуться к выходу, чтобы поспешить исполнить данное ему поручение, как Агриппа вновь крикнул ему:
– Клемент!
Невольник остановился в ожидании нового приказания.
– Если тебе будет необходима помощь всей моей дворни, то распоряжайся ею по своему усмотрению.
Клемент вышел.
После его ухода в триклиниуме вновь воцарилась тишина, печальнее прежней.
Овидий, погруженный в самые тяжелые размышления, почти не слышал жестокого распоряжения Агриппы Постума, да и не имел сил сопротивляться ему; Юлия же в надежде на осуществление этого распоряжения, уничтожавшего единственного свидетеля их вины, который мог донести на них, ободрилась и ласково смотрела на брата, казавшегося ей прекрасным и в сильном гневе, выражавшемся на его лице.
При взгляде на рассерженного и вместе с тем убитого горем поэта в уме молодого человека блеснула на одно мгновение мысль об уничтожении и этого свидетеля, и случилась бы беда, если бы в эту минуту в его руке находился кинжал; но мысль о таком ужасном убийстве тотчас же исчезла, так как молодой человек понял, что Овидий, наравне с Юлией и с ним, Агриппой Постумом, имеет интерес держать в тайне совершенное преступление, сообщником которого он отчасти был, подучив их к этому преступлению. Он бросил на поэта, которого считал трусом, взгляд презрения и, отвернувшись от него, пожал плечами.
В эту минуту в триклиниум вошел Клемент. С покрытым бледностью и обезображенным от волновавших его чувств лицом, с глазами, почти выходившими из орбит, с дрожавшими губами и с кинжалом в правой руке, он остановился перед своим господином и голосом, полным ярости, проговорил:
– Процилл бежал!
– Но каким образом и куда? – спросил его Агриппа и, не ожидая ответа, проговорил повелительным голосом: – Все слуги за мной и выпустить собак на охоту за беглецом!
И он первым бросился из триклиниума, где остались лишь Юлия, отдавшаяся прежнему страху, и Овидий, не обращавший до этого внимания на происходившее вокруг него.
Подняв голову и увидев перед собой молодую жену Луция Эмилия Павла, дочь своей Коринны, которая, отправляясь в ссылку, оставила ее на его попечение, Овидий подумал о том, что ему следовало бы быть ее наставником и охранителем, и не нашелся сказать ничего более, кроме следующих слов мягкого упрека:
– О Юлия, о дочь моя, зачем не остереглась ты примера своей матери? Ливия не прощает родственникам Августа; зачем забыла ты это? Она всех сгубила.
– Не отчаивайся так, о добрый Овидий; винные пары затемнили наш рассудок, и Венера будет иметь к нам сострадание. Процилл будет пойман, так как он не может убежать так далеко, чтобы не быть отысканным при помощи собак; слуги приведут его к нам, и мы предохраним себя от доноса.
– Посредством нового преступления, о Юлия?
– Так что же; ведь он раб и подлый шпион.
– Но, однако…
– Когда он попадет в наши руки, мы посоветуемся о том, как с ним поступить; кстати, скоро должна быть к нам и моя мать со своими друзьями, – мы и у них спросим совета.
Прошел уже добрый час, а никто еще не возвращался. Оставив роковую для них залу триклиниума, Юлия и Овидий перешли в галерею, выходившую на сторону, противоположную морю; из нее открывался вид на горы и на большую дорогу. В эту сторону бросились все искать Процилла и отсюда должны были притащить его на виллу.
Беспокойство все более и более овладевало Юлией, и, боясь выдать поэту свои опасения, она некоторое время хранила молчание; но, наконец, чувствуя необходимость услышать ободряющее слово, она воскликнула:
– И никто не возвращается!
– Они возвратятся, – отвечал Овидий, – но без него. Негодяй успел изучить дорогу в прошлую ночь и в течение вчерашнего дня, а быть может, и гораздо ранее, так как присланный сюда на погибель Постума хитрый невольник предвидел минуту, в которую ему придется бежать.
– Разве поверят свидетельству только одного невольника?
– Других спросят под пыткой.
– Но никто из них ничего не видел.
– Чем мы убеждены в этом? Мы были в забытьи во время оргии; да и ты, и Постум были в забытьи еще до совершения преступления.
– Август не даст огласки процессу; не доискиваясь всей правды, он подвергнет нас ужасному, неожиданному наказанию.
Овидий и Юлия вновь замолчали, углубившись в тяжелые размышления.
Свежий ночной воздух немного охладил их разгоряченные головы и привел в некоторый порядок их мысли; теперь они ясно видели всю опасность их положения и то, что может их ожидать в будущем.
Наконец вдали послышался лай собак, и Юлией и Овидием вновь овладели одновременно и страх и надежда, заставившие сильнее забиться их сердца.
– Они возвращаются! – воскликнула Юлия, не осмеливаясь прибавить к этому восклицанию слова надежды.
Лай собак приближался, и вскоре послышались и людские голоса. Луна стояла над горизонтом, но свет ее едва проникал сквозь густой туман, слабо освещая окрестности, что позволяло Юлии и Овидию видеть лишь ближайшую к ним часть большой дороги.
Сперва на ней появились собаки; они шли невесело, опустив головы и высунув языки от усталости. Вслед за ними показался Агриппа Постум, а за ним следовали Клемент и шесть или семь других невольников.
Процилла между ними не было. Все они шли молчаливо, что ясно свидетельствовало о безуспешности их поисков.
– Сбежал, негодяй! – не сказал, а скорее прорычал Агриппа Постум, подойдя к Юлии и Овидию. – Наши собаки обнюхали все кусты, обежали все места, но нигде не могли найти следов беглеца.
Отпустив слуг, Агриппа вместе с сестрой и поэтом спустился в садовую аллею, и все трое молчаливо пошли по ней к balneareum, купальне, находившейся у морского берега и уже известной читателю.
Тут Агриппа, взглянув на одно место у берега, ударил вдруг себя по лбу и воскликнул:
– Вот откуда бежал этот негодяй: он отвязал мою ладью и уплыл на ней в море.
И действительно, небольшой faselus, служивший Агриппе Постуму для его прогулок по заливу, не колыхался более на своем обыденном месте у берега.
Тогда все трое окинули глазами все пространство расстилавшегося перед ними моря; но слабый свет луны, все еще подернутой туманом, не позволял рассмотреть более отдаленную часть морской поверхности; кроме того, с минуты побега Процилла прошло уже довольно много времени, и он, наверно, был уже далеко; наконец, легко могло быть, что он, уходя в море, тотчас же взял влево и, обогнув мыс, находящийся на левой стороне, поплыл по направлению к солернскому берегу.
Между тем как они высказывали такие предположения, упрекая себя в том, что им не пришла эта мысль в первые минуты побега Процилла, они заметили в море, между Соррентом и островом Катри, черную точку.
Эго было какое-то судно.
– Может быть, это твой faselus? – спросила у брата Юлия.
– Нет, это что-то гораздо большее, – ответил ей Агриппа Постум.
Черная масса плыла по направлению к Сорренту; Агриппа вскоре убедился в том, что это была действительно большая лодка.
Овидий посоветовал было возвратиться на виллу и лечь спать.
– Нет, – отвечал Агриппа Постум, – я желаю подождать, пока эта муха пристанет к берегу; разве вы не видите, что она плывет к нам? Кто знает, быть может, они встретили подлого беглеца.
Действительно, судно довольно быстро приближалось к берегу, и Агриппа, бывший хорошим моряком, мог уже отличить приметы судна.
– Это celes[34],– сказал он, – в этом я не ошибаюсь, так как на нем нет мостика над палубой; это одно из тех судов, на которых часто плавают пираты и которые отличаются быстрым ходом.
Судно было уже близко; парус был спущен, и работали одни гребцы. Нетерпеливый Агриппа крикнул сидевшим в судне:
– Куда вы плывете?
– Не это ли Соррент? – спросили плывшие вместо ответа.
– Да, это он.
– Где тут пристают?
– Да кто вы такие?
– Мы скажем это внуку Августа.
– Друзья! – воскликнули тут разом Агриппа Постум и Юлия, и первый продолжал:
– Поверните нос в нашу сторону; тут, у мола, вы можете закрепить ваше судно и сойти на берег.
Управлявшие судном тотчас исполнили этот маневр, и, когда оно коснулось своим боком мола, находившиеся на нем выпрыгнули на берег. Указанный мол доходил почти до самой лестницы купальни виллы Ведия Поллиона, так что спустя минуту вновь прибывшие стояли уже перед Агриппой, Юлией и Овидием.
Сбросив капуцины, закрывавшие их лица, они были тотчас же узнаны.
Это были Семпроний Гракх, Деций Силан, Сальвидиен Руф, Азиний Галл, Аппий Клавдий, Квинт Кристин и еще несколько других римлян, принимавших участие в известном уже читателю предприятии. После неудачи они сошлись, по предварительному уговору, у сицилийского мыса, который лежит при входе в Fretum Sicilum, и отплыли оттуда в нанятом ими и ожидавшим их там судне в Соррент, пройдя под парусами Mare inferum.