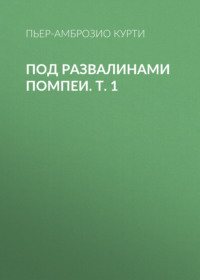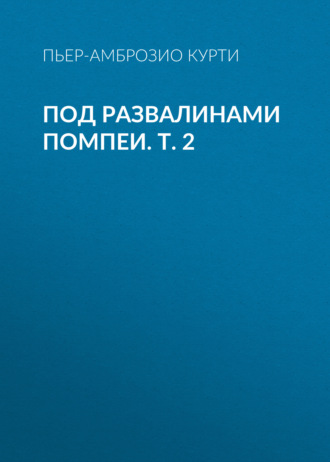 полная версия
полная версияПод развалинами Помпеи. Т. 2
Нам известно также, что, не довольствуясь ролью супруги императора и не имея от него детей, Ливия Друзилла хлопотала о том, чтобы посадить на императорский трон своего сына от первого мужа, и для осуществления этой цели прибегала ко всем средствам, какие только могли изобрести ее ум и хитрость.
Она долго трудилась в этом направлении, и Кай Калигула не ошибся, назвав ее Улиссом в юбке.
С той поры Скрибония, бессильная против Ливии Друзиллы, вполне овладевшей сердцем Августа, пережила гибель своего семейства. Она видела, как умер в Байе Марцелл, муж ее дочери Юлии, и слышала, как общественное мнение обвиняло в этой смерти Ливию и ее сообщника, медика Антония Музу; она напрасно сопротивлялась воле государя, чтобы упомянутая Юлия сделалась женой сына ее ненавистной соперницы; она молча переносила страдания, которые причинила ей смерть внуков Кая и Луция и ссылка меньшего внука, Агриппы Постума; молча она вынесла позор, которому предана была публично ее любимая дочь, осужденная на отдаленную ссылку за развратное поведение.
Несчастная мать последовала за дочерью на уединенный остров Пандатария и оставалась там при ней несколько лет, разделяя с ней ее лишения и позор.
В сердце Августа уже не было места нежным чувствам как для дочери, так и для матери; на их долю не выпало ни одной искры милосердия, ни одного слова прощения. Таким образом, для бедных пленниц Пандатарии единственная надежда оставалась в заговоре.
Когда Юлия была извещена Агриппой Постумом о намерении друзей освободить ее, то Скрибония поспешила с острова Пандатария в Рим, чтобы по возможности помочь осуществлению заговора, чем и объясняется ее появление на вечернем собрании друзей ее дочери на вилле Овидия.
С той минуты она не покидала Рима, стараясь поддерживать энергию заговорщиков. Тут она узнала, с каким чувством приняла ее дочь известие о решении отца своего, Августа, перевезти ее с острова Пандатария в Реджию: эта перемена места ссылки не возбудила в душе Юлии надежды на лучшую участь. В Риме Скрибония ждала возвращения из Греции Луция Авдазия и Деция Силана.
Легко представить себе, с каким волнением и страхом ждала она результата этого слишком смелого предприятия и как она страдала, когда узнала о неудаче. С этой минуты она потеряла всякую надежду на спасение своей дочери и своих внуков.
Усиление наказания для Агриппы Постума и ссылка младшей Юлии на остров Тремити по причинам, оставшимся для Скрибонии и всего Рима неизвестными; несчастье, постигшее в то же время Овидия, с удалением которого она потеряла единственного друга, ободрявшего ее в тяжелые минуты; торжество Тиверия по поводу одержанных им побед, доходившие до нее со всех сторон слухи об его успехах в Паннонии, Далмации и Германии, о чрезвычайной благосклонности к нему императора и о том, что Тиверий признан им окончательно наследником престола, – все это постепенно усиливало страдания несчастной Скрибонии и приближало ее к могиле.
Ливия с особенным злорадством хлопотала о том, чтобы триумф Тиверия и декрет сената, предоставивший сыну Ливии высшую власть, почти равную власти государя, нанесли Скрибонии смертельный удар.
Она быстро приближалась к могиле, и минуты ее жизни были сочтены.
Ливия, умевшая вовремя казаться доброй и благодетельной, узнав о безнадежном положении своей бывшей соперницы, якобы тронулась им и, рассчитывая на то, чтобы возбудить к себе общее удивление, приказала Антонию Музе, знаменитому в то время придворному врачу, поспешить к больной и помочь ей своим искусством.
Общественное мнение вполне оценило внимание Ливии Августы к Скрибонии.
Врач Муза был из вольноотпущенников и рано сделался известным как изящный писатель, за что, собственно, и получил от Августа имя Музы. Он изучил медицину у Асклепиада, прибывшего в римскую столицу из Прузы во время войны против Митридата и сделавшегося вскоре другом самых знаменитых людей той эпохи, в том числе и Цицерона. Хорошо знакомый с учением Гиппократа и его предшественников, Асклепиад основал методическую школу и учил, что все болезни суть результат или ослабления органов человеческого тела (asthenia), или напряженности их (hiperstenia). Вместе с Музой его учениками были Марк Антоний, Эвдем и Фемизон[48].
При дворе Августа находилось много медиков, и имена некоторых из них встречаются в надписях на урнах, открытых в общей гробнице вольноотпущенников Ливии. Эти надписи свидетельствуют о том, что при дворе римских императоров были лица, называвшиеся supra medicos, главный медик, начальник над всеми остальными; decurie medicus, декурион медиков, и т. д. Кроме того, был особый медик по ушным болезням, Amintas medicus auricularies и по другим болезням. Словом, это были так называемые ныне медики-специалисты.
Муза был лейб-медиком императора. Отрывки его медицинских сочинений дошли до нашего времени; но он прославился не столько ими, сколько излечением Августа от опасной и упорной болезни печени посредством холодной воды.
Это исцеление произвело такое впечатление на придворных и льстецов, окружавших Августа, что они устроили между собой подписку и на собранные деньги поставили в храме Эскулапа бронзовую статую Музы. Кроме того, он получил привилегию носить золотое кольцо, – впоследствии оно сделалось отличием врача, – богатые подарки от императора и большое денежное вознаграждение. Вообще, надобно заметить, что в то время труд врача вознаграждался очень щедро.
Славе Антония Музы много способствовало его умение хорошо писать и красноречиво говорить, вкрадываться в чужую душу и жить со всеми в мире; многие искали его дружбы, а поэты, и между ними даже творец «Энеид», посвящали ему свои произведения.
В эпоху нашего рассказа Антоний Муза был уже старым человеком. Убеленный сединой, он казался еще более важным и почтенным. В доме Ливии Скрибонии он был принят с глубоким уважением, так как там было известно, какой благосклонностью он пользовался со стороны императора и какой популярностью он пользовался в римской столице.
Когда Муза был введен в комнату больной Скрибонии, она находилась в глубоком сне.
Старый врач стал терпеливо ждать ее пробуждения. Проснувшись и услышав голос Музы, тихо спрашивавшего ее, как она себя чувствует, Скрибония спросила резким и недоверчивым тоном:
– Кто ты такой?
– Старый друг твой, Скрибония.
– Кто ты такой? Старых друзей у меня нет.
– Нет, ты имеешь их, дочь моего друга, Скрибония Либона: я врач Муза.
– Ты! Ты! Муза! Будь дорогим гостем! Ты кстати пришел: прежде нежели оставить этот мир, мне хочется передать тебе то, что за столько лет накопилось у меня на сердце.
Врач побледнел, но не промолвил ни слова.
– Кто тебя послал ко мне, друг моего отца?
– Ливия Августа, которую очень беспокоит твоя болезнь.
– Точно так, как беспокоила болезнь Луция и Кая, моих внуков, убитых ею; не правда ли?
Антоний Муза не осмелился противоречить.
– Точно так, как беспокоила ее болезнь Марцелла, моего зятя, несчастного первого мужа моей Юлии; ты, как врач при Ливии Друзилле, знаешь кое-что об этом; не правда ли?
– Я нахожусь при императоре.
– Это то же самое, Муза; перестань притворяться предо мной, готовой переплыть реку Стикс.
Прошло несколько минут молчания.
– Но ты мне не ответил на мои слова о Марцелле; нас никто не услышит, расскажи же мне, каким образом ты убил его там, на водах в Байе?
– Скрибония, ты говоришь странные вещи; болезнь туманит твой ум…
– Не хочешь сказать? В таком случае я расскажу тебе, как это совершилось, и знай, что рассказ мой не болезненный бред. Однажды Друзилла призвала тебя к себе и сказала тебе: «Муза, ты мне обязан расположением, которое оказывает тебе Август». Ты хотел возразить, но хитрая женщина предупредила тебя. «Я знаю, что ты хочешь сказать, – заметила она, – будто бы Август расположен к тебе за то, что ты излечил его холодными ваннами. Но ведь ты ничего особенного не сделал, прописав ему холодные ванны после того, как теплые оказались вредными. Но не будем об этом спорить, – продолжала она. – В нашей власти поставить тебя на такой пьедестал, с которого никто не будет в состоянии сбросить тебя». Ты молчал, ожидая приказаний своей госпожи, так как всегда очень полезно вспоминать о своем прежнем положении; и она без всяких обиняков стала говорить тебе о том, что Клавдий Марцелл, сын Октавии, зять мой и Августа, служит препятствием ее планам, что ей необходимо устранить это препятствие и что ты…
– Ты повторяешь бессмысленную клевету, Скрибония.
– Я еще не кончила, Муза, подожди.
С большим усилием взяв со столика стоявший на нем фиал и проглотив немного заключавшейся в нем жидкости, Скрибония продолжала:
– Ты уехал в Байю, где находился Марцелл; он готовился принимать теплые ванны, но ты запретил это ему и приказал купаться в холодных.
– Но ведь они помогли Августу.
– Именно по этой причине не следовало их прописывать несчастному мужу моей Юлии. И он, деятельность которого была столь полезна Риму, умер[49].
– Это могло быть ошибкой, а не преступлением.
– Спроси об этом у Друзиллы и у римского народа. Но Друзилла сдержала свое слово: ты получил золотое кольцо и много денег, и тебе поставили статую в храме Эскулапа.
– Я не стану спорить с тобой, Скрибония, опровергать клевету моих врагов, уверяющих, будто я убил Марцелла по желанию Ливии Августы. Я послан ею, чтобы оказать тебе помощь; будем говорить о твоей болезни.
– Иди, Антоний Муза, и скажи этой губительнице всего моего семейства, что я бесконечно благодарна ей за единственное добро, которое она сделала мне, послав ко мне тебя, слепое орудие своего коварства, и что если бы я не высказала тебе того, что давит меня тут, – Скрибония указала при этих словах на свою грудь, – смерть была бы для меня мучительнее.
– Да, – немного помолчав, проговорила больная, – юноша Марцелл был моим любимцем, и не умри он, Юлия не находилась бы ныне в вечной ссылке, а считалась бы будущей императрицей.
Пристыженный и приниженный резкими словами Скрибонии, Муза повернулся и медленно направился к дверям, но больная снова подозвала его к себе.
– Выслушай еще последние слова матери, которая, быть может, завтра не увидит солнца.
«Каждый раз, когда греческая нация будет знакомить нас со своими искусствами, она будет заражать вас и своими пороками, и не останется никакого средства для нашего спасения, когда она пошлет к нам своих врачей. Они дали себе клятву истребить всех варваров, то есть всех иностранцев, посредством своей медицины. Высокая плата, просимая ими за лечение, есть само по себе средство возбудить к себе доверие, чтобы легче убивать пациентов. Тебе же я запрещаю принимать врачей».
Это писал старый Катон сыну своему, и это будет единственное завещание, которое прошу позволить мне оставить моей дочери и моим внукам.
Скрибония умолкла; старый врач удалился уничтоженный и с поникшей головой.
Правду ли говорила Скрибония Антонию Музе?..
По крайней мере, общественное мнение подозревало его в убийстве Марцелла, а знавшие душу Ливии были убеждены в этом. История поддерживает эти подозрения, и поэт Проперций, хотя и принятый при дворе Августа, не мог удержаться, оплакивая раннюю смерть талантливого юноши в восемнадцатой элегии третьей книги своих песен, чтобы не воскликнуть:
О Байя, место преступлений!Скажи ты мне, какой злой генийЦарит у теплых вод твоих?Во время смерти Клавдия Марцелла в Байе, Ливия Августа находилась в Риме; и если, несмотря на это, общая молва подозревала ее в смерти этого несчастного юноши, то несомненно, что ее неприязнь к сыну Октавии не была тайной.
Наступила ночь. У изголовья умиравшей Скрибонии бодрствовал лишь Луций Друз Скрибоний Либон, сын ее брата. Он один из всех членов ее семейства и, можно сказать, из ее друзей остался в живых и на свободе. Вихрь несчастья унес из дома Ливии Скрибонии и родных и друзей: им было не безопасно выражать свою любовь и привязанность к Скрибонии, так как Ливии Августе казалось, что всякое лицо, приближавшееся к бывшей супруге Августа, было заговорщиком. Не имела ли Скрибония, думала хитрая Ливия, повода и права быть озлобленной против нее и желать ее гибели? И эта мысль лежала в основании всех действий Ливии.
Луций Скрибоний с родственной любовью ухаживал за больной теткой, которая, вдруг обратившись к нему, спросила:
– Что отвечал тебе Фабий?
– Что он придет с ним сегодня ночью.
– И он думает, что тот согласится прийти?
– Вероятно.
– Необходимо, чтобы он пришел поскорее, так как, мой дорогой, мне осталось мало жить, а то, что я хочу сказать ему, чрезвычайно важно для всех нас.
– Надейся, тетушка. Да вот, кажется, они уже пришли: внизу я слышу необыкновенное движение.
Действительно, вскоре послышались шаги, приближавшиеся к комнате больной.
Дверь комнаты отворилась, свет факела озарил ее, и номенклатор тихим голосом проговорил:
– Цезарь Август.
Это, действительно, был сам император, вошедший в комнату вместе с Фабием Максимом.
Фабий дал приказ слугам, стоявшим у дверей, удалиться, а Луций Друз Скрибоний Либон, отойдя почтительно от изголовья своей родственницы, чтобы дать место Августу, дружественно пожал руку Фабия.
– Скрибония, – сказал император, – ты желала видеть меня, и я сам сильно желал этого, точно так же, как желаю, чтобы ты поскорее выздоровела.
– Не обольщайся напрасно, Октавий; да и для чего мне жить? – отвечала утомленным голосом Скрибония. – Все наше семейство рассеяно, уничтожено, и тебе известно кем. Ведь я служу только препятствием; когда я буду устранена, тогда лишь ты один останешься препятствием; смотри же, берегись.
– Не оскорбляй ее, Скрибония; ты всегда была несправедлива к ней.
– Помоги мне, Октавий, приподняться; я хочу поговорить с тобой о другом, и мне нужно спешить воспользоваться остающимися мне минутами.
Фабий Максим, стоявший по другую сторону больной, подложил ей под голову другую подушку, и Скрибония, помолчав немного, продолжала:
– Октавий, позволь мне называть тебя этим именем, которое напоминает мне счастливые минуты нашей молодости; когда ты сделался Августом, я уже не была твоей.
– К чему, бедная Скрибония, вспоминать в настоящую минуту о таких печальных вещах?
– Я вспоминаю о них в настоящую минуту потому, что до сих пор я не хотела унижать себя, оправдывая перед тобой свою жизнь. Она заставила тебя поверить, будто я постыдными интригами обесчестила дочь победителя при Анции, но она лгала. Ты знал, что я строго сохраняла верность Корнелию Сципиону и что была также верной женой Тиверию Нерону, моему второму мужу; а если ты знал меня благоразумной и честной в мои молодые годы, то мог ли ты подозревать, чтобы я, будучи уже старше, изменила тебе, наиболее славному из моих мужей?
– Я никогда не обвинял тебя в неверности, но восставал только против твоей ужасной и несправедливой ревности, против упреков, которыми ты мучила меня.
– Действительно, ты не обвинял меня прямо, но сделал хуже: ты написал об этом в своих записках, чтобы оправдать перед потомством ту несправедливость, которую ты готовился совершить относительно меня, и потом, действительно, совершил, прогнав меня со своего брачного ложа, с которого я сошла такой же честной, какой взошла на него.
– Откуда ты узнала, что я это высказал в моих записках?
– Зачем я буду скрывать? Я узнала об этом за пятьсот динариев от того, кому это известно.
– Талл! О подлый человек! – прошептал со злостью Август.
Император мысленно решил наказать этого несчастного.
Скрибония продолжала:
– А я любила тебя, Октавий, любила ради тебя самого и ради нашей Юлии, которую ты погубил своим поведением относительно меня.
Август не осмелился прервать ее речь; в эту минуту он сознал свои проступки. Совершенно истомленная Скрибония собралась с последними силами, чтобы высказать ему все то, что столько лет хранила глубоко в своем сердце.
– А она, первого мужа и сына которой ты, будучи еще триумвиром, сделал несчастными, не могла любить тебя; она дорожила лишь твоим богатством и твоей славой и, притворившись, что любит тебя, изменила своему мужу, Тиверию Нерону…
Август пытался было возразить, но Скрибония продолжала:
– Обольщается лишь тот, кто желает быть обольщенным: плод, который она носила под своим сердцем, когда вошла в твой дом твоей женой, был твой; весь Рим говорил это.
Август сделал вновь движение, но Скрибония знаком руки заставила его замолчать.
– А сделавшись женой, о чем она думала, к чему стремилась?.. Припомни. Марцелл умер; а спроси у народа, и он тебе ответит: это она убила его! Луций и Кай, сделанные тобой цезарями, также умерли, и все в один голос обвиняют ее и в их смерти; Юлия, наша дочь, подверглась еще худшему наказанию: она отправлена в ссылку по ее тайным наговорам; и ни страдания Юлии, ни мои слезы, ни мольбы ее друзей и всего Рима не помогли ей; ее дети, Агриппа и Юлия, также отправлены в ссылку по ее доносам, и с ними обходятся хуже, чем со всяким другим ссыльным. Лишь одной Агриппине она не нанесла еще удара, но придет очередь и этой внучке моей. Удержи все это в своей памяти. А для кого она занималась истреблением твоего и моего семейства? Для своего сына, уже ныне называющегося цезарем, императором, более сильным, чем ты сам, и уже назначенным тобой наследником престола. Фабий Максим, Луций Скрибоний, племянник мой, римский народ, приветствуйте нового цезаря, поздравляйте его, преклоняйтесь перед восходящим солнцем!
– Но я еще не умер, Скрибония…
– Кто обращает теперь на тебя внимание, Август? Друзилла думает только о своем сыне: пусть гибнет Август, пусть гибнет весь мир, лишь бы он царствовал! Разве вчера во время триумфа обращали на тебя внимание? Звуки музыки и песен были лишь для него, прославляли лишь его; крики народа относились лишь к нему.
– Замолчи, Скрибония, замолчи!
– Скоро я замолчу навсегда, но позволь мне при мысли о новом повелителе Рима воскликнуть со слезами: бедный Рим!
– Но Тиверий Клавдий Нерон не назначен еще моим наследником…
– Он скоро будет им.
– Нет, клянусь богами, хранителями Рима, он не будет им!
– Кто же им будет?
Сжав свою голову руками и упершись локтями о кровать умиравшей, Август молчал, в душе его боролись противоположные чувства и привязанности. Скрибония сумела пробудить в его сердце чувство ревности. Тут он моментально припомнил резкий, дурной характер Тиверия, его надменность и гордость, еще более усилившуюся под влиянием последних побед, одержанных им, и триумфа и почестей, оказанных ему сенатом, и понял, что он избирает в нем очень дурного наследника на римский престол. Когда же Скрибония, чувствуя приближение роковой минуты, спросила его:
– Кто же будет твоим наследником, скажи?
Он отвечал:
– Агриппа Постум.
– Как, ты… вызовешь его… с острова Пианоза?..
– Да.
Сделав последнее усилие, Ливия Скрибония привлекла Августа к себе, охватила его шею руками и, запечатлев на его губах последний поцелуй, прошептала слабым голосом:
– Благодарю!
С этим словом Ливия Скрибония испустила дух. На следующий день Август вспомнил о своем секретаре, Талле.
Вот что мы читаем по этому поводу у Светония:
«Он приказал перебить колени у Талла, своего секретаря, за то, что он за пятьсот динариев изменил тайне, заключавшейся в одном письме».
Глава двадцатая
Uxoris loco non uxoris jure
Возвратимся теперь в Помпею. Наступили июльские календы, и на муниципальных выборах в дуумвиры избраны были Олконий Руф и Антоний Игин.
Этим результатом выборов Кай Мунаций Фауст вовсе не был опечален: его сердце было по-прежнему полно любви к Неволее Тикэ, его мысль была занята лишь ею, и все честолюбие его заключалось в стремлении обладать ею.
Но жители Помпеи вовсе не радовались новым дуумвирам: по городу уже носился слух, что за происшедшие на выборах беспорядки многие подвергнутся сильному наказанию.
В ту ночь, когда было произведено нападение на мастерскую скульптора Луция Крепы и была уничтожена конная статуя императора Августа, гарнизон местной военной колонии, хотя и поздно прибывший на место беспорядка, уже успел арестовать очень многих; и на следующий день paganus, то есть глава колонии, послал в Рим преувеличенное донесение о происшествии, представив его в виде бунта и общего восстания, грозившего будто бы спокойствию всей империи, и просил о присылке новых военных сил и о принятии энергичных мер.
Сенат не замедлил распорядиться так, как просил начальник военной колонии: между новыми членами этой колонии должны были быть распределены участки земли помпейской Кампаньи, преимущественно в окрестностях самой Помпеи; город должен был заплатить большой штраф, а всех арестованных в упомянутую ночь велено было предать смертной казни.
Исполнение всех этих мер должно было состояться после триумфа, так как сенат не желал, чтобы радость по поводу этого торжества была нарушена в провинциях.
Наконец новые военные поселенцы прибыли в Помпею и стали расхаживать по улицам, третируя жителей с наглостью и презрением. Уже отмечались земельные участки, которые должны были перейти от местных граждан к чуждым пришельцам, а на углах всех улиц, городских стенах и площадях senatus consultus извещал о наложении на жителей города большого штрафа и о том, что судебные дуумвиры получили приказание произвести в определенный срок следствие над арестованными во время беспорядков и подвергнуть виновных, в назидание прочим, самому строгому наказанию.
Единственной причиной несчастья, разразившегося над гражданами Помпеи, было оскорбление каменного изображения Августа.
Легко себе представить, какие тяжелые чувства овладели помпеянцами. Между заключенными в тюрьмах находились также и молодые люди, принадлежавшие к семействам высших классов общества; их также ожидала постыдная смерть. В городе говорили уже, что через день или через два их поведут в базилику, то есть в суд, а тотчас после суда будет совершена над ними и сама казнь.
Это известие быстро распространилось по городу и повергло в отчаяние многие семейства, несчастью которых сочувствовал весь город. Промышленная и торговая Помпея, оживленная в обыкновенное время и вечером, сделалась грустной и молчаливой: ни на площадях, ни на улицах, ни у дверей жилищ не было видно обычных сходбищ и не слышно было бесед; никто не думал насладиться прохладой, приносимой вечерним ветром с моря или ближайших гор.
Лишь изредка слышались шаги и грубый голос военных дозорщиков, медленно шагавших по немым улицам. Тот, кому приходилось посетить интересные развалины Помпеи, несомненно, заметил новую улицу, идущую по направлению к городским воротам, называвшимися Морскими. Эта улица, устроенная вдоль древней городской стены и проходящая по части города, открытой в 1817-ми последующих за ним годах, выходит на старую улицу, которая круто спускается выходила на окрестную равнину. Недоступная для экипажей, пишет Фиорелли в своем «Описании Помпеи», и вымощенная большими многоугольными камнями из лавы Везувия, эта улица на значительном расстоянии шла, вероятно, между домами, окруженными садами, густые растения которых покрывали склоны находящихся тут холмов. В настоящее время эта сторона города лежит еще под пеплом.
На склоне одного из этих холмов возвышался дом Кая Мунация Фауста, недалеко от ворот, через которые дорога шла к морскому берегу. Ворота, безобразно реставрированные в своем верхнем своде, имели вид арки, под которой проходили два отдельных пути, из которых один, вымощенный каменными плитами, был закрыт двухстворчатой деревянной дверью, а другой, немощеный, был огорожен железной решеткой.
Дом нашего навклера имел со стороны моря ксистус, то есть цветник с тропическими растениями; имея два этажа, он был устроен, подобно прочим домам тогдашней Помпеи, то есть с передней, в которую входили с улицы и которая вела во внутренний дворик, окруженный помещениями для рабов; а в глубине этого дворика внешняя лестница вела в столовую, гостиную и рабочую комнату хозяина. Вдоль этого первого этажа шла галерея, с которой был ход в верхние комнаты, откуда можно было выйти на балкон с видом на море. С задней стороны дома, вблизи домашней купальни, в нижнем помещении находились амбары для склада товаров, с выходом на другую улицу.
В вечер нашего рассказа в дверь задней стороны дома Мунация Фауста, так же запертого и не оживленного, как и остальные дома, постучались.
Но на первый стук никто не отвечал. Когда же стук повторился, послышался хриплый голос привратника, спросившего у стучавшего, кто он такой и чего он хочет в такой поздний час.
– Это я скажу только твоему господину, – отвечал незнакомый голос. – Иди и позови его.
– Отчего ты не постучался в переднюю дверь? Эта дверь для товаров; пойди налево, к первой двери с морской улицы.
– Нет, мне нужно войти в эту дверь; иди же и позови ко мне Кая Мунация Фауста.