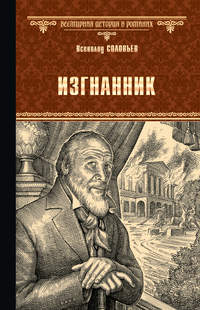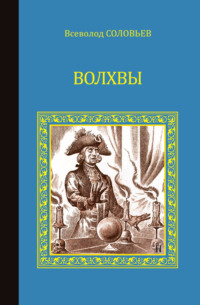полная версия
полная версияЦарь-девица
Через несколько часов в лавру уже въезжали царица Наталья Кирилловна с дочерью и невесткой, все приближенные Петра – потешные, а затем и из Москвы многие бояре, преданные царю, и стрельцы Сухарева полка.
Петру то и дело докладывали о прибывавших, и он все больше и больше оживлялся. Знать, не покинули его русские люди!
После вечерен у молодого царя собрался совет, в котором главное участие принимал князь Борис Голицын. Призвали также Мельнова и Ладогина, которые подробно объявили обо всех поступках Шакловитого. Они сказали также, что между стрельцами большинство на стороне царя и в числе его приверженцев также полковник Циклер.
– Циклер! – изумленно воскликнул Петр. – Я никогда не забывал этого имени… Я всегда считал его врагом своим. Я помню, хорошо помню его тогда, на Красной площади!..
Он невольно вздрогнул при этом воспоминании.
– Но если он одумался, если он остался мне верен теперь, то, конечно, я все забуду…
Мельнов объяснил, что Циклер человек, действительно, пользующийся большим влиянием между стрельцами, к тому же он все знает про замыслы Шакловитого и много нужного царю открыть может.
– А коли так, призову его сюда, пусть он мне служит, – сказал Петр.
На совещании решено было послать в Москву гонца и покуда требовать только разъяснения, по какому поводу был в Кремле и на Лубянке сбор стрельцов, а также присылки Циклера с пятьюдесятью стрельцами.
Вот уж и вечер. Бояре разошлись, князь Голицын отправился приготовлять на всякий случай монастырь к обороне.
Царица Наталья Кирилловна с молодою царевной и Евдокией Федоровной вернулись от всенощной. На всех трех лица нету, кажется, все слезы выплакали.
Старая царица уже не та, какою была в прежние годы. Нестарая по счету лет своей жизни, от вечных мучений, тревог и страшных воспоминаний, постоянно ее преследовавших, она глядит дряхлой старухой. Куда девалась вся чудная красота ее, которою, бывало, так любовался, от которой глаз не мог отвести покойный царь Алексей Михайлович. Совсем побелели ее густые русые волосы, все лицо в морщинах, под глазами круги темные, веки красны от слез: эти слезы всю жизнь не высыхали… Теперь уж нечего ждать от нее энергии – она вся надломлена, она может только плакать и молиться. И вот то и дело уговаривает она невестку не убиваться, успокоиться, подумать о младенце, которого она носит во чреве своем, но тут же сама и зальется слезами, и, глядя на нее, плачет, рыдает и Евдокия Федоровна.
Не знает царица Наталья Кирилловна, как и пережила она страшную ночь эту. Уж и то последние дни минуты спокойной не было – то тот придет, то другой придет, ужасы рассказывают, пугают; одна боярыня Хитрая чего ни насказала – страсть! Письма подметные стали находить в Преображенском… А тут только что, после долгой молитвы, заснула она, вдруг ломятся в двери, кричат: «Спасайтесь, спасайте государя!»
Не помня себя, вскочила царица – едва постельница на нее душегрею накинула – бежит к сыну, а у самой ноги подкашиваются, думает: «Жив ли уж? Не убили ли?» Нет, жив, слава богу! Да вот как выбежал он раздетый да ускакал от них, так совсем света невзвидела царица, мысли спутались. Говорят ей, она слышит, но не понимает, сама бормочет неведомо что. Да и тут, в святой обители, тут, конечно, меньше опасности, только враги-то лютые хитры, того и гляди заберутся… Не отошла бы вот от сына, так бы ежеминутно и прикрывала его своей материнской грудью. Да что с ним поделаешь? Заперся он с князем Борисом Голицыным, ни матери, ни жены к себе не пускает.
И точно, на ключ замкнул двери Петр Алексеевич, совещается с Голицыным.
– Нет, теперь довольно! Будет трусить. Как попомню о своей трусости, – говорит царь, – так стыдно глядеть на свет божий! Пора – я не ребенок… Хотели от меня отделаться, так заранее бы изводили, а теперь даром не дамся! Не отпустит Шакловитого, сам на Москву пойду со своими потешными, посмотрю, как народ встретит царя своего… Красно умеет говорить Софья народу, авось и я в карман за словом не полезу – а дело мое правое!.. Если завтра к полудню не будет Шакловитого, сейчас же в Москву иду!
– Не торопись, государь, – стал его уговаривать Голицын, – обождать нужно. У нас теперь еще мало силы, мало войска, пожди, подойдут. Да вот еще брата Василия следовало бы сюда выписать.
– Василия! Ее пособника, ее друга!.. Опомнись, князь, – воскликнул Петр, и глаза его вспыхнули гневом. – Василия мне не надо, обойдусь и без него.
– Нет, он тебе нужен, очень нужен, – тихо и спокойно ответил Голицын, – не потому говорю, что он мне брат двоюродный, да и тебе, государь, не след на него сердце иметь, что ж, что он ее пособник…
– А Крымский поход? – перебил Петр. – Я этого позора Голицыну никогда не забуду.
– Да, большая ошибка… – в раздумье продолжал князь Борис, – большая ошибка… Но ведь брат и сам очень хорошо ее понимает. Намедни говорил со мною, побледнел весь, на глазах слезы… Что ж, государь, кому в жизни не приводилось ошибаться? Очень-то строго не суди. А брата Василия непременно нам нужно. Врагом тебе он никогда не был, ни в каких против тебя замыслах не участвовал, а человек он разума великого.
Петр, привыкший глядеть с уважением на князя Бориса, замолчал, начал его внимательно слушать. Кончилось тем, что он уполномочил его звать Василия Васильевича к Троице, обещал, что примет его отлично и зла на него никакого держать не будет. Князь Борис тотчас же распорядился, написал длинное послание брату и отправил к нему с этим посланием ловкого подьячего.
Но прошел день: Шакловитого не выдают, Василий Васильевич не едет.
XIIIМосква в волнении. По всему городу молва разносится, что началась великая усобица между братом и сестрою. Опять, как и семь лет тому назад, собирается народ московский, толкуют… Но мало голосов слышится в пользу Софьи: народ стоит за справедливость, за законность.
Правила царевна государством, пока царь не вырос, теперь он вон какой, головой выше всех бояр стал, так ему и быть настоящим царем, а царевнино дело кончено.
В Кремле, на Верху, полное уныние. Царевна приказала запереть наглухо все кремлевские ворота и пропускать только самых близких к ней лиц. Сначала она старалась казаться спокойной. Узнав от Шакловитого об отъезде царя к Троице, она вышла к стрельцам и объявила им, что если б они не остерегались, то всех бы их передавили потешные конюхи. Шакловитый тоже бахвалился и кричал: «Вольно же ему взбесяся бегать!» Но это было при народе, а у себя в покоях царевна с Шакловитым не скрывались друг перед другом: оба они хорошо видели, что дело принимает очень опасный для них оборот.
Вот прибыли от Троицы Петровы посланцы с запросом царю Ивану и Софье: за каким делом были стрельцы собраны ночью?
Царевна велела сказать брату, что она собралась в монастырь на богомолье и стрельцы должны были провожать ее. Относительно присылки Циклера с пятьюдесятью стрельцами долго она не могла решиться, но Шакловитый присоветовал ей согласиться на это требование. Хоть ему и доносили уже о том, что Циклер не его сторону держит, но он еще не верил этим доносам, да и решил, что пятьдесят стрельцов не бог весть какая сила, послать их можно.
Циклеру разрешено было отправиться, и он поехал к Троице. Ему сопутствовали Елизарьев и Турка с товарищами.
Но вот является требование о выдаче Шакловитого, и тон этого требования ясно показывает Софье что теперь с братом легко не справиться, что он начал борьбу не на шутку.
О выдаче единственного безгранично преданного ей человека и речи быть не может – но что же делать? От всех этих тревог разум мутится; нужно посоветоваться с Василием Васильевичем… И забыв свою ссору, забыв проклятия, в безумную минуту призванные ею на голову любимого человека, она шлет за Голицыным. Голицын не появляется. Целый день проходит – его нету.
Узнав обо всем происшедшем, Василий Васильевич написал брату Борису письмо, в котором просил его не допускать дело до кровопролития, просил примирить обе стороны.
В ответ на письмо он получил уже известное нам предложение брата ехать к государю в Троицкую лавру. Подьячий, присланный князем Борисом, пустил в ход все свое красноречие, уверяя, что со стороны Петра его ожидают всякие милости.
Голицын слабо и печально усмехнулся на слова эти. Все эти последние дни, после ужасного свидания с царевной, Василий Васильевич не выходил из дому. Много он думал и передумывал, постарел весь и сгорбился от бессонных ночей и никому неведомых тайных страданий. Он мог примириться с кознями врагов своих, мог примириться с печальной участью, его ожидавшей в случае падения Софьи; но с тем ударом, который нанесла она ему, он не был в силах справиться. Однако измученный и оскорбленный ею, хоронящий свою любовь и счастье, он ни на минуту не допустил возможности идти к врагам Софьи.
– Не пойду я к Троице, – ответил он подьячему, – так скажи и брату и государю. Не пойду – я никаких не жду милостей, а на суд позовут – явлюсь, и пусть меня судят.
Так подьячий ничего и не добился.
Князь Василий Васильевич в тот же день вечером выехал в одну из своих подмосковных.
Он не мог идти в Кремль, не мог видеть Софью. Он решил, что никогда больше не увидится с нею – она умерла для него.
Царевна ушам своим не поверила, когда ей доложили, что Голицын уехал из Москвы.
Она заперлась от всех в своей опочивальне, кинулась на постель и неудержимо рыдала. Она поняла, что такое сделала, она хорошо знала характер своего друга. Теперь он не вернется; он не пойдет к врагам, но не придет и к ней.
И она хотела бежать к нему, найти его где бы то ни было, на коленях умолять его простить ее, забыть слова ее безумные.
Но ей невозможно было теперь из Москвы выехать – она должна была бороться с братом. Шакловитый понуждал ее к решительным действиям, и она с ним соглашалась. Она исполняла его требования, но как-то машинально. В ней не было уже прежней энергии, она с каждым днем ослабевала.
Она решила отправить к Петру боярина князя Троекурова. Он возвратился и привез Софье ответ царя, что тот с нею ни в какие переговоры и вступать не хочет. В то же время она узнала, что Петр прислал в солдатские и стрелецкие полки грамоту, в которой требовал, чтобы начальные люди и по десяти человек рядовых из каждого полка немедленно отправились к Троице.
Софья призвала к себе этих начальных людей и вышла к ним такою грозною, какой они никогда еще ее не видели.
– Вы сбираетесь к Троице?! – сказала она. – Забудьте и думать об этом! Оставайтесь здесь все до единого!
– Да как же, государыня, – ведь царь нас требует. Можем ли мы противиться его воле? – возразили начальные люди.
– Давно ли вы брата больше меня слушаете? Я правительница, и я вам приказываю оставаться. Слышите! Злые люди ссорят меня с братом, но не ваше дело вмешиваться в нашу ссору.
Стрельцы стояли в недоумении и опять повторяли о том, что царского приказу как же им ослушаться.
– Так знайте, – крикнула Софья, – если кто-нибудь из вас пойдет к Троице, немедленно же будет пойман и казнен! Коли голов своих жалеете – оставайтесь, а я от слов своих не отступлюсь.
Она величественно вышла, но тут же упала в первое попавшееся кресло и, закрыв лицо руками, горько зарыдала.
Шакловитый успокоил стрельцов, что к царю будет послано с объяснениями.
И действительно, туда тотчас же отправился дядька царя Ивана, князь Прозоровский вместе с духовником Петра. Им приказано было извиниться перед царем, что никак нельзя было исполнить его требование и прислать к нему войско.
Кроме этого, Прозоровский и духовник должны были всячески постараться примирить сестру с братом. Между стрельцами Шакловитый распускал слух, что царская грамота была прислана без ведома Петра Алексеевича князем Борисом Голицыным.
Прошло два дня; Прозоровский и духовник вернулись, ничего не добившись. Царь стоит на своем, слышать о сестре не хочет и только требует, чтобы его приказание было исполнено.
Оставалось последнее средство: упросили патриарха ехать к Троице.
Престарелый Иоаким не стал отговариваться. Он был рад вырваться от врагов своих и, ничего не сделав для примирения враждовавших, остался у Троицы.
Прошло опять несколько дней. Все было тихо, молодой царь, очевидно, еще слишком робко пробовал свои силы, еще боролся сам с собою. Но вот 27 августа появилась новая царская грамота от Троицы: опять требование по всем полкам, чтобы немедленно явились к царю, а не то пусть ожидают смертной казни.
Стрельцы не хотели больше ничего слушать и целыми толпами двинулись в лавру.
Царь в сопровождении матери своей и патриарха вышел к ним навстречу и сейчас же объявил им об умысле Шакловитого на жизнь его и Натальи Кирилловны.
Дьяк стал читать выписку из речей расспросных и изветов стрелецких. Патриарх увещевал стрельцов, чтоб они объявили всю правду, а в случае если утаят что-то, грозил лишить их своего пастырского благословения.
Стрельцы смешались и завопили:
– Мы великим государям служим и работаем, как служили и работали их предкам, всегда и неизменно готовы исполнять государскую волю, готовы ловить воров и изменников! А что говоришь нам, великий государь, про Федьку Шакловитого, то того Федькина злого умысла и измены мы не знаем!
Однако некоторые из стрельцов кое-что знали и подробно рассказали обо всем государю.
– Теперь вы сами видите, – обратился Петр к Голицыну, к патриарху и всем окружавшим его, – сами видите, можно ли мне покончить это дело, можно ли мне примириться с сестрою? Не останавливайте же меня, я не успокоюсь, пока жив Шакловитый.
Все заметили перемену, внезапно происшедшую с Петром. Глаза его загорелись таким гневом, на который он, казалось, до сих пор не был способен. Грозная нота прозвучала в его голосе…
Положение Софьи было безнадежно. Она решилась сама ехать к Троице, но на дороге встретил ее стольник Бутурлин и объявил ей от имени Петра, чтоб она в монастырь не ходила.
– Это что значит? Отчего не идти мне в монастырь? Пойду непременно! – гордо ответила Софья.
Но вслед за Бутурлиным является Троекуров и объявляет, что если она пойдет в монастырь, то «с нею будет поступлено нечестно».
Она вернулась и тотчас же велела позвать к себе стрельцов, старых стрельцов еще 82 года, которые одни оставались ей верными.
Она вышла к ним вся в слезах, с измученным, жалким видом. Она собрала весь остаток сил своих, решилась испробовать последнее средство и, если оно не поможет, отдаться своей участи.
Последняя страшная обида, отчаяние, ненависть, тоска, которые давили ее, все это придавало особенное выражение, особенную страстность его голосу.
Она говорила увлекательно; стрельцы ее слушали, видимо, растроганные.
– Дети, – говорила Софья, – пошла я к Троице, и вот в Воздвиженском меня чуть не застрелили: едва я ушла оттуда. Страшные дела у нас творятся. Нарышкины с Лопухиными хотят извести царя Ивана; до меня добираются. Скажите же мне – могу ли я на вас положиться? Надобны ли мы вам? Отвечайте немедля, отвечайте сущую правду: коли мы не надобны, то пойдем с братом Иваном где-нибудь себе кельи искать. Думала я – образумится брат младший, окончит эту распрю со мною, да нет – Борис Голицын и Лев Нарышкин его совсем с ума споили, на меня натравляют. А старшего царя ни во что не ставят, комнату его дровами завалили. Меня называют девкою, как будто я не дочь царя Алексея Михайловича! Хотят голову рубить князю Василию Васильевичу, а сами знаете – много он добра сделал: с Польшею вечный мир заключил; с Дону прежде беглых не выдавали, а теперь выдают его промыслом… Заступитесь, дети!.. Я обо всем радела… Вас не забывала, а теперь все из моих рук тащат. Без меня-то, пожалуй, и вам худо будет. Не ходите к Троице… А то, пожалуй, и вы побежите от меня… Целуйте крест!
Она приказала принести крест и привела стрельцов к присяге. Те присягнули, но Софья все же ничего не выиграла.
XIVВ то время как новые грозные события собирались над Москвою, в то время как приходили последние дни владычества Софьи, по тихой проселочной дороге, у опушки непроходимого бора, тянувшегося с небольшими перерывами чуть не до самой Украины, медленно катилось несколько запыленных подвод, а впереди подвод какой-то громоздкий безобразный экипаж вроде тарантаса, запряженный шестериком лошадей. На каждой телеге, загроможденной пожитками, двое или трое слуг и молодцы все на подбор, крупные, внушительного вида, к тому же и вооружены изрядно.
В самом тарантасе из-за пуховых подушек можно было разглядеть две фигуры: мужчину и женщину. Мужчина с усами длинными, с окладистою бородою, беспокойным взором и решительным лицом; женщина красивая, с огненными глазами, но уже не первой молодости.
Со стороны глядя, всякий принял бы этот поезд за помещичий, всякий сказал бы, что то переезжает какой-нибудь дворянин из одной вотчины в другую. Но то был не помещичий поезд, то ехал из Москвы на Украину со своими пожитками и наемными слугами бывший стрелецкий полковник Озеров, немало служб сослуживший царевне Софье. А с ним его жена, бывшая любимая наперсница Федора Родимица.
Софья после торжества своего не забыла любимую постельницу, которая служила ей такие верные службы, наградила она ее приданым немалым и выдала замуж за Озерова.
Многие думали, что царевнина любимица пойдет очень далеко, сумеет, пожалуй, добиться при дворе высокого положения, многие весьма удивлялись, видя, что Родимица даже совершенно исчезла из терема и стушевалась, за что такая немилость?
Но немилости никакой не было, и царевна и Федора были очень довольны друг другом; связь их была неразрывна. Бывшая постельница отлично устроилась в слободе стрелецкой, на славу обзавелась домиком и хозяйством, получила мужа себе по мыслям, сговорчивого, тихого нрава, всегда находящегося у нее в послушании. Царевна никогда не забывала ее своими милостями: дарила то то, то другое из вещей, да и казну ее пополняла щедрою рукою.
Родимица, заведя по Москве большие знакомства, прислушивалась направо и налево, все высматривала, все выспрашивала и обо всем доносила царевне. Так продолжалось несколько лет до самого последнего времени, а в последнее время нерадостные вести приносила Родимица тихомолком, по вечерам пробираясь в теремные покои.
Опасные дни настали, такие опасные, что однажды, идя к царевне, Родимица не на шутку задумалась: «Несдобровать теперь Софье, несдобровать и всем ее сторонникам, за все про все отвечать придется, пожалуй, и самой ей, Родимице. Даром, что притулилась она в своей слободе и удовольствовалась невидным, но выгодным положением, все же врагов много, и знают эти враги об ее сношениях с царевной, и еще лучше знают про ее участие в прежнем мятеже стрелецком. Да и службы Озерова всем тоже известны: приходится, стало быть, о своих головах подумать».
Совсем на себя не похожая, как-то даже приниженная, встретила царевна Родимицу. Молча и уныло выслушала ее вести, а вести были вот какие:
– Нет надежды теперь на стрельцов, ничего с ними теперь не поделаешь. Все вразброд пошло, никакой силы, никакой ловкости и решимости не хватит – вконец испорчено дело.
– Сама знаю, что так, – едва слышно проговорила Софья и замолчала.
Родимица стала рассказывать ей про свои опасения за себя и за мужа. Софья взглянула на нее и слабо и грустно улыбнулась.
– Верою и правдою служила ты мне, Федора, – наконец проговорила она, – многим я тебе обязана, стало, должна подумать и о твоем будущем. Правду ты говоришь, что тебе и мужу твоему теперь опасно. Мне вы уже ничем не поможете, и вам нужно теперь спасаться. Собирайтесь-ка да уезжайте подалее от Москвы, уезжайте себе тихомолком, а я вот соберу тебе кое-что на память… Живите себе да меня не поминайте лихом.
Федора смутилась на мгновение.
Как же это в горе-несчастье покинуть царевну!
Но смущение ее прошло скоро. Родимица уже не была прежнею, на смерть готовой за царевну женщиной; в эти последние годы ее начинало неудержимо тянуть на родину, в Украину. Она спала и видела туда вернуться, и кончила она тем, что бросилась на колени перед царевной, поцеловала ее руки, попричитала обычно да и простилась с нею навеки…
Софья исполнила свое обещание, прислала ей богатые подарки, прислала и денег немало.
Озеров нанял людей подходящих, которые бы сопровождали в дороге его пожитки и могли бы справиться с придорожными ворами да разбойниками; все устроил. Глухою ночью собрал и выслал из города подводы, скинул с себя мундир стрелецкий и выехал тайно из Москвы с женою. И вот они на дороге в Украину.
Едут немало времени; проехали многие города, местечки, села. Немало навидались да наслушались… Тяжело на сердце у Родимицы, все нет-нет да и вздумается про царевну.
Что-то теперь она, матушка? Что-то с ней будет? Авось Бог даст, в живых-то ее оставят… Что от власти отойдет она, так это и лучше – измаялась вся, а что с того проку вышло!
Вспомнились Родимице иные горячие слова Софьи о благе родины, вспомнились ей речи о том, что при ее мудром правлении отдохнет родная земля от прежних смут и неурядиц.
Радовалась Софья, получая добрые вести из городов разных, но видит теперь Федора, как заблуждалась правительница, видит, что многие добрые вести были лживы, что нет тишины и счастья на земле Русской. Разумная баба Федора, понимает, что кругом творится, и никогда не забыть ей, чего навидалась она этой долгой дорогой.
Да, плохо русскому люду: законные и незаконные поборы сильно его угнетают, вопят мирские люди, совсем должны они разоряться – заедает их кормление воевод и подьячих; да и как тут справиться – сидит себе воевода и зовет земского старосту: «Неси ты мне, говорит, пирог в пять алтын, налимов на двадцать шесть алтын, подьячему – пирог в четыре алтына и две деньги, другому подьячему – пирог в три алтына и три деньги, третьему – в три алтына и две деньги». Три дня проходят, и опять воевода требует. Зовет старосту к себе обедать. Староста отказаться не смеет и должен заплатить за эту честь. Несет он, кряхтя, воеводе четыре алтына, боярыне его три алтына две деньги, сыну его восемь денег, боярским боярыням восемь денег, жильцам верховым шесть денег. И тянутся эти приношения круглый год раза по два иной раз в неделю, и ради всякого случая: сегодня воевода именинник, завтра его день рождения, сегодня у него обед, завтра похмелье! И плачут мирские алтыны да деньги, плачет люд русский и с горя бежит на кружечный двор пропивать последнее достояние, а пропившись, собирается человек по двадцати и больше, и идет эта голая и пьяная орава в соседние села разбоем, мучит крестьян, жжет огнем и вымучивает рублей по сто.
Крестьяне, заложив свои животишки и деревушки, от разбойников откупаются и бредут врозь, куда глаза глядят. Целые села пустеют. Полнятся только степные притоны, где лихие, бесшабашные атаманы набирают себе товарищей, полнятся раскольничьи скиты, куда скрываются эти несчастливцы.
Вечереет осенний день ненастный. Наплывают одна за другою свинцовые тучи. Ветер все сильнее и сильнее налегает на деревья, и гнутся их верхушки, осыпая дорогу желтыми листьями. Вот и дождь, то крупный и тяжелый, то вдруг мелкий да острый, словно тонкие ледяные иглы. Вот и темь… Из лесной чащи так и глядят на путника мрак и ужас, так и чудятся всякие дива.
Видно, и вооруженным молодцам на задних подводах стало тяжко и жутко, завели они песню. Но унылые звуки еще большую тоску нагоняют, да того и жди наведут на обоз недоброго человека – разбойника или лесного зверя. И смолкла песня.
Федора сидит, вся уйдя в мягкие подушки, думает свои невеселые думы, глядит, не мигая, на темноту лесную. Муж ее спит крепким сном – нет у него в голове дум мрачных. Рад он радешенек, что из Москвы подобру-поздорову выбрался. Теперь далеко – не словят, а до того, что делается на Руси-матушке, ему дела нет: хоть пропадом пропади все, лишь бы ему с женой да пожитками благополучно до места добраться…
А вечер все темнее, погода все ненастнее… Вот небо совсем обложилось, как деготь черное, и стал хлестать дождик, размесилась грязь по дороге, почитай что нет и проезду.
– Стой! – кричат в задних подводах.
– Что такое? – встрепенувшись, сказала Федора, высовываясь из тарантаса.
К ней подошел один из молодцов.
– Да вот, государыня боярыня, лошади больно замучились, да и грязь, сама видишь, переночевать бы остановиться.
– Да где же остановиться-то? Здесь, в лесу, что ли? – спросила Федора.
– Зачем же в лесу – тут, видишь ты, направо сейчас и лесу конец, селение, усадьба… Не дозволишь ли понаведаться, кто живет, – может, добрый человек, боярин али там кто. Может, и лошадок накормят да и нас без ужина не оставят.
– Что ж, ступай, только вернись скорее, – разрешила Федора.
Обоз остановился, молодец отпряг из одной телеги лошадку, вскочил на нее верхом и потрусил куда-то.
Прошло добрых полчаса. Озеров храпел, да и Федора вздремнула.
Но вот молодец возвратился, говорит: «Большое тут селение, вотчина дворянина Перхулова, да и сам-то он, Перхулов, с семьею живет в своей усадьбе и просит проезжих бояр к себе ночевать».