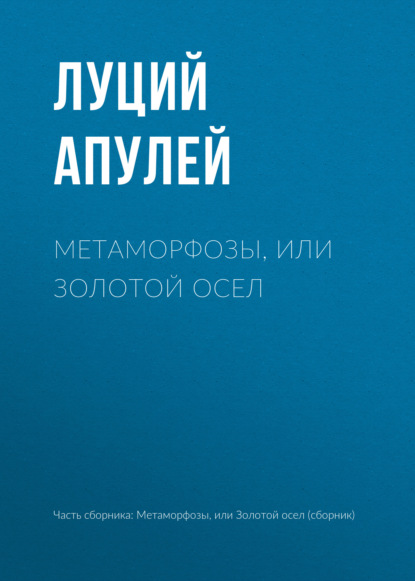полная версия
полная версияПовести и рассказы (сборник)
Когда Сергей Петрович вышел из помещения панорамы на кривой и горбатый московский переулок, с которого дворники счищали снег, а извозчики месили его полозьями, он подумал, что нет таких фактов, с которыми должен мириться человек.
За природою следовала музыка, искусство во всех его видах, какие доступны были пониманию Сергея Петровича и могли наполнить его жизнь и сделать ее интересною и разнообразною. За ними шла женская любовь, которой жаждало его сердце. В концертах, в театрах и на улице он видел породисто-красивых женщин, полных изящества и благородства, и хотел их любви. Одну из них он запомнил, встречая ее несколько раз, и мечтал о ней, а она ни разу не подняла на него своих глаз и не знала об его существовании. Ему было противно воспоминание о любви девушки, которая полола гряды и от которой пахло навозом и потом, и противна мысль о других таких же грубых женщинах, которые будут любить его и говорить с ним о рублях и ненавистном труде. Ему до боли хотелось любви этой женщины, имени которой он не знал и которая не понимает всего того, что мучит его и ему подобных. И как человек, никогда не имевший денег, он думал, что они могут дать ему любовь, и как человек, не знавший женской любви, думал, что она может дать ему счастье.
В это именно время Сергей Петрович поехал к женщинам, где встретили его товарищи, и намеренно не стал пить, чтобы яснее сознать то, что приходится в этом мире на долю его и ему подобных.
Чем больше вглядывался Сергей Петрович в жизнь, тем бессильнее и ничтожнее становилась в его глазах природа, безумно рассыпающая свои дары. И на место униженной природы перед его тусклыми глазами стала другая грозная и могучая сила – деньги. Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и над природой. И слабый мозг его поддался обману, и в сердце зажглась надежда. Он вынимал из кармана серебряный рубль и вертел его в руках с чувством странного любопытства и недоумения, точно впервые видел этот блестящий кружок. Они не с неба валятся, эти кружки, и он приобрел его и может еще приобресть много, и тогда в его руках будет могучая сила, властвующая над природой. И, как всякий человек, у которого мелькнула надежда, он стал думать не о возможности ее осуществления, а о том, что будет делать он, когда надежда осуществится. И эти несколько дней были отдыхом для Сергея Петровича, и он поднялся вверх, чтобы сильнее потом расшибиться о землю и уже не встать. Он взял данным то, что у него уже есть миллион, и мечтал о море, о горах и о женщине, имени которой он не знал и которая не подозревала об его существовании.
Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать и когда ее гнал такой жгучий кнут, как видение сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. И, когда оно мелькнуло перед утомленными глазами Сергея Петровича, он удивился, что, как и прежде, он отдается неосуществимым и детским мечтам. Было много путей к деньгам, но перед каждым стояла рогатка и не пускала Сергея Петровича. Он не мог украсть, как не мог и убить, так как не мозг, а чужая, неведомая воля управляла его поступками. Тот труд, который был доступен ему, не мог дать богатства, а все другое – игра на бирже, фабрика, служба с крупными окладами, искусство, женитьба на богатой, все то, что дозволяется законом и совестью и дает состояние в один день или в год, – так же не существовало для него, как и ум. И когда Сергей Петрович понял, что деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их и что люди всегда добивают того, кто уже ранен природой, – отчаяние погасило надежду, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и часты и толсты были ее железные прутья, и только один незапертый выход имела она.
И тогда новый период начался в жизни Сергея Петровича. Он никуда не выходил из дому и бывал только в столовой, являясь туда почти к самому ее закрытию, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых студентов. День и ночь он лежал на постели или ходил, и соседи и хозяйка уже успели привыкнуть к однообразному звуку шагов, какой иногда слышится из тюремных камер: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. На столе лежала книга, и, хотя она была закрыта и запылена, изнутри ее гремел спокойный, твердый и беспощадный голос:
«Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».
VРаз нельзя победить – нужно умереть. И Сергей Петрович решил умереть и думал, что смерть его будет победою.
Мысль о смерти не была новою: она приходила к нему и раньше, как приходит и ко всякому человеку, у которого на пути много камней, но была так же бесплодна и бездеятельна, как и мечты о миллионе. Теперь же она явилась у Сергея Петровича, как решение, и смерть стала не желаемым, чего может и не быть, а неизбежным, таким, что произойдет непременно. Из клетки открывался выход, и, хотя он вел в неизвестность и мрак, это было безразлично для Сергея Петровича. Он смутно верил в новую жизнь и не страшился ее, так как только свободное я, которое не зависит ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, унесет он с собою, а тело достанется в добычу земле, и пусть она творит из него новые мозг и сердце. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть – впервые за всю свою жизнь он испытал глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающего оковы.
– Я не трус, – сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя услышал и с гордостью принял.
Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить все заботы о жизни и о теле, уже более ни на что не нужном. Но с Сергеем Петровичем случилось обратное, и в последние дни своей жизни он снова стал тем педантично аккуратным и чистоплотным человеком, каким был раньше. Его удивило, как мог он столько времени оставлять в беспорядке свою комнату и стол, и прибрал его, разложил книги в том порядке, в каком они лежали всегда. Наверху он положил начатое для зачета сочинение – впоследствии оно перешло к Новикову, а особо «Так сказал Заратустра». Он даже не раскрыл Ницше и был совершенно равнодушен к книге, которую, по-видимому, не дочитал, так как карандашные отметки на полях идут только до половины третьей части. Быть может, он боялся, что найдет там что-нибудь новое и неожиданное, и оно разрушит всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатление яркого и страшного сна.
Потом Сергей Петрович сходил в Центральные бани, с наслаждением плавал в холодном бассейне и, встретив на улице товарища-студента, зашел с ним в портерную «к немцу», где выпил бутылку пива. Дома, порозовевший, чистый, в белой полотняной рубашке, он долго сидел за чаем с малиновым вареньем, потом попросил у хозяйки иголку и стал чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая и постоянно рвалась под мышками, и Сергею Петровичу уже не раз приходилось чинить ее. Его толстые и неловкие пальцы с трудом ловили маленькую иголку, терявшуюся в гнилом сером сукне. Несколько дней Сергей Петрович посвятил на приготовление цианистого кали и, когда яд был готов, с удовольствием посмотрел на маленький пузырек, думая не о смерти, которая заключается в нем, а об успешно выполненной работе. Хозяйка, маленькая, черненькая женщина, бывшая содержанка, по-видимому, что-нибудь подозревала, потому что очень обрадовалась, когда Сергей Петрович обнаружил признаки возвращения к обычной трудовой жизни. Она пришла в его комнату и долго болтала на ту тему, как скверно действует на молодых людей одиночество, и рассказала об одном своем знакомом, который был околоточным надзирателем и имел доходы, но от мрачного своего характера стал пить водку и попал на Хитровку, где теперь пишет за рюмку водки прошения и письма. Эту историю об околоточном надзирателе она рассказывала впоследствии всем приходившим студентам и добавляла, что уже тогда она заметила сходство в судьбе знакомого и Сергея Петровича.
– Заходите ко мне чайку попить, – приглашала она Сергея Петровича, без всякой, однако, задней мысли. – Да к товарищам бы прошлись, а то что это: ни к вам кто-нибудь, ни вы никуда.
Сергей Петрович последовал ее совету и обошел почти всех своих товарищей, но нигде подолгу не оставался.
Впоследствии студенты уверяли, что начавшееся безумие Сергея Петровича уже ясно обнаруживалось, и удивлялись, как они тогда же не заметили его. Обычно молчаливый и застенчивый даже со своими, Сергей Петрович на этот раз болтал о всяких пустяках, а о Новикове вспоминал и говорил, как равный, и даже упрекнул его в поверхностности. При этом Сергей Петрович был весел и часто смеялся. Один молоденький студент передавал, что Сергей Петрович даже пел, но в этом уже все заметили преувеличение. Но все единогласно находили, что странность какая-то в Сергее Петровиче, несомненно, существовала, и не заметили ее тогда же только потому, что вообще на Сергея Петровича внимания обращали мало. И по поводу этого недостатка внимания некоторые, особенно резко осуждавшие равнодушие и эгоистичность товарищей, возбудили интересный вопрос: возможно ли было спасение для Сергея Петровича в этот решительный момент его жизни? И находили, что спасение было вполне возможно, но не воздействием на него другого – сильного – ума, а влиянием близкого человека, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что все эти дни Сергей Петрович находился в состоянии умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею безраздельно господствует своя или чужая идея. Ее нельзя было ослабить рассуждениями, но Сергея Петровича могла разбудить любовь. Крик матери, идущий от ее сердца, вид лица, которое так дорого и мило и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые невыносимо видеть даже огрубевшему человеку, – все это могло бы призвать Сергея Петровича к сознанию действительности. Человек добрый и честный, он не осмелился бы внести смерть в материнское сердце и остался бы жить, если не для себя, то для других, любящих его. Многих малодушных, уже решавшихся на самоубийство, удерживало на земле сознание, что они нужны для любящих их, и они долго еще жили, укрепляясь в мысли, что более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще более бывало таких, которые забывали причины, побудившие их на самоубийство, и даже жалели, что жизнь так коротка.
И с новым ожесточением одни из товарищей нападали на других и резко упрекали их в возмутительном равнодушии. Какая-нибудь телеграмма в десяток слов, отправленная к матери Сергея Петровича, могла бы сохранить человеческую жизнь. Некоторых из студентов, всегда выдвигавших вперед общественную точку зрения, настоящий случай навел на размышления и разговоры о разъединенности студенчества, отсутствии общих интересов и умственном одиночестве. Возникло на короткое время несколько кружков саморазвития, где читались книги по общественным вопросам и писались рефераты.
Убить себя Сергей Петрович решил в пятницу, 11 декабря, когда многие из товарищей уже собирались уезжать на рождественские каникулы. В этот день, утром, он был в почтовом отделении, где сдал в отделе заказной корреспонденции тяжелое письмо, адресованное в Смоленск Новикову, и полученную квитанцию спрятал в бумажник. В письме он сообщал о своей смерти и причинах ее, причем последние излагал по рубрикам, и все письмо производило такое впечатление, как будто он писал не о себе, а о другом каком-то, мало для него интересном человеке. Днем Сергей Петрович пообедал в комитетской столовой, причем за обедом сидел очень долго и разговаривал со знакомыми, а после обеда спал также очень долго и крепко, так что встал только в одиннадцатом часу. Ему подали самовар, и студенты за стеною снова услышали однообразный звук шагов: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. Когда уже поздно ночью заспанная горничная убирала самовар и посуду, Сергей Петрович говорил с нею, точно желая, чтобы она подольше не уходила, и был при этом, по ее словам, очень бледен.
…Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни. Он был совершенно спокоен и весел и не думал о смерти, как и все эти дни. Думать о ней он начал только за час или за два до того момента, как принять яд. И мысли приходили откуда-то издалека, отрывочные и глухие. Сперва он подумал о хозяйке и далее о том, как он будет лежать и какой будет иметь вид. На минуту мысль его скакнула в сторону, к воспоминаниям детства, именно к смерти его дяди. Он умер у них в доме, и Сергея Петровича, тогда еще семилетнего Сережу, увезли к знакомым. Проходя передней, уже одетый, он заглянул в залу и увидел там стол, за которым они всегда обедали, а на столе обращенные к нему неподвижные ступни ног в белых нитяных носках. Видел он их одну секунду, но запомнил на всю жизнь, и сама смерть долго представлялась ему не иначе, как в виде неподвижных ступней ног в белых нитяных носках. Потом он вспомнил сравнительно недавний случай, когда он видел одни очень бедные и очень странные похороны. Странным в них было то, что никто решительно на всей улице, ни прохожие, ни извозчики, не обращали на них внимания и даже как будто совсем не видели их, так как никто не снял шапки. Четыре носильщика несли на носилках гроб, прикрытый чем-то темным, и шагали в ногу и так быстро, что гроб раскачивался, словно на волнах, и край покрывала отдувался при опускании. И не было видно ни духовенства, ни провожатых.
Когда от этих воспоминаний мысль вернулась к Сергею Петровичу, она стала удивительно острой, точной и светлой, как нож, который отточили. Еще минуту она в нерешимости колебалась, отмечая окружавшую тишину, погасший самовар, тиканье карманных часов на столе, и внезапно, точно найдя, что ей нужно, вылепила картину похорон Сергея Петровича – такую правдивую, яркую и страшную, что он вздрогнул и руки его похолодели. С тою же неумолимою, ужасающею правдивостью она один за другим набрасывала последующие моменты: черную, кривую пасть могилы, твердый и тесный гроб, позеленевшие пуговицы мундира и процесс разложения трупа. И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро проволакивает перед ним самое жизнь и смерть в их непередаваемых красках.
И Сергей Петрович проснулся. Ему было так страшно, что хотелось кричать, и он с ужасом смотрел на маленький пузырек и пятился от него, точно боясь, что ему насильно вольют в рот смертельную отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя – того ужасного неповиновения, которое оказывали ему ноги и руки. Он пятился назад, а все тело его содрогалось от порывов вперед, к пузырьку. Ноги, руки, рот в самых, казалось, костях и венах своих наполнялись страстным, безумно-повелительным желанием броситься вперед, схватить пузырек и выпить его с наслаждением, с жадностью.
– Не хочу, не хочу! – шептал Сергей Петрович, и отталкивался руками, и пятился назад, но ему казалось, что он приближается к пузырьку, который растет в его глазах. И когда дверь остановила его, он перестал видеть перед собою, вскрикнул и сделал шаг вперед.
В эту минуту вошла горничная за самоваром и долго собирала посуду, которую она плохо различала сонными глазами.
– Когда вас будить? – спросила она, уходя.
Сергей Петрович остановил ее и заговорил, но не слыхал ни своих вопросов, ни ее ответов. Но, когда он опять оказался один, в мозгу его осталась эта фраза: «Когда вас завтра будить?» – и звучала долго, настойчиво, пока Сергей Петрович не понял ее значения.
Он понял, что, как и все, он может раздеться и лечь спать, и его разбудят завтра, когда настанет новый день, и Сергей Петрович будет жить, как и все, потому что он не хочет умирать и не умрет, и никто не может принудить его взять пузырек и выпить. Все еще дрожа, он взял пузырек, нарочно открыл его, ощутил запах горького миндаля и тихонько, слегка вздрагивающей рукой поставил на полку, где его не было видно за книгами. Теперь, когда пузырек побыл в его руках и он не умер, он уже не боялся ни его, ни себя.
Когда Сергей Петрович лег в постель, ему казалось, что спасенная жизнь радуется во всех малейших частицах его тела, пригретого одеялом. Он вытягивал ноги, руки, чуть не совершившие преступления, и в них чудилось что-то сладко-поющее тоненьким веселым голоском, как будто кровь радовалась и пела, что не стала она осклизлой гниющей массой, а струится, веселая и красная, по широким и свободным путям. И такая же веселая, она переполняла сердце, и оно пело вместе с нею и торжествующе отбивало свой гимн жизни.
«Жить! Жить!» – думал Сергей Петрович, сгибая и разгибая послушные, гибкие пальцы. Пусть он будет несчастным, гонимым, обездоленным; пусть все презирают его и смеются над ним; пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, которую стряхивают с ног, – но он будет жить, жить! Он увидит солнце, он будет дышать, он будет сгибать и разгибать пальцы, он будет жить… жить! И это – такое счастье, такая радость, и никто не отнимет ее, и она будет продолжаться долго, долго… всегда! Бесконечное множество дней впереди зажигает свою зарю, и в каждой из них он будет жить, жить! И тут впервые за много дней Сергей Петрович вспомнил отца и мать – и ужаснулся и умилился. Он мысленно целовал морщины, по которым должны были скатиться слезы, и сердце его разрывалось от ликующего победного крика: я живу, живу! И, когда он заснул легким, радостным сном, последним ощущением был соленый вкус слезы, омочившей губы.
День был морозный, и солнце светило, когда Сергей Петрович проснулся. Он долго не понимал, почему постель сделана, как всегда, и он лежит в ней живой, тогда как вчера он должен был умереть. Голова немного болела, и все тело ныло, как после сильных побоев. Постепенно, мысль за мыслью, он вспомнил все, что прошло вчера в его голове, и не понял, почему он так сильно испугался и что было страшного во всем том, что он знал всегда и десятки раз представлял себе. Смерть, похороны, могила… Ну, а как же может иначе быть, если человек умирает? Конечно, его хоронят и для этого выкапывают могилу, и в могиле труп разлагается. И еще раз он внимательно и недоверчиво вгляделся во вчерашние страшные представления, но они были совсем бледные и тусклые и все более бледнели, как это бывает с видениями сна, которые так ярки в первую минуту пробуждения и так скоро и бесследно стираются живыми впечатлениями действительности и дня. И в картинах смерти не было ничего страшного, и радость жизни представлялась непонятною и дикою.
И, как разгадка всего, мелькнула мысль, что он, Сергей Петрович, – трус и бахвал.
Он вспомнил про посланное к Новикову письмо, в котором он сообщает о своей смерти, как о совершившемся факте, – и покраснел от стыда, почувствовал, что решение умереть стоит в нем такое же неизменное, спокойное и неотвратимое, как и вчера, когда он еще не поддавался приступу малодушного и непонятного страха. Страх исчез, но жгучий стыд медлил уходить, – и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной и тяжелой цепи раба. Равнодушная, слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей.
С новою силою вспыхнул жгучий стыд, и пламя его испепелило самую память о минутном приступе страха. И, когда потухло его зарево, исчезла и тупая, ноющая боль тела, и все оно стало легким, почти неощутимым. Перестала болеть и голова, и мозг заработал с безумной быстротой и такою силой и ясностью, как это случается только при горячке. Губы содрогались от желания говорить, и на язык приходили слова, каких никогда не употреблял Сергей Петрович и не знал. И он говорил, что, если он останется жить теперь, он возненавидит себя, и ему придется выпить такую полную чашу самопрезрения, перед которой яд кажется нектаром. Его «я», то независимое и благородное «я», которое на миг почувствовало себя победителем и испытало безмерную радость торжества смелого духа над слепой и деспотической материей, убьет его, если не убьет яд. И Сергею Петровичу казалось, что он чувствует в себе мощный рост этого «я», чувствует, как поднимается он ввысь, и громовые раскаты его голоса заглушают жалкий писк тела, сильного только ночью. Пусть сгибаются те, кто хочет, а он ломает свою железную клетку. И, жалкий, тупой и несчастный человек, в эту минуту он поднимается выше гениев, королей и гор, выше всего, что существует высокого на земле, потому что в нем побеждает самое чистое и прекрасное в мире – смелое, свободное и бессмертное человеческое я! Его не могут победить темные силы природы, оно господствует над жизнью и смертью – смелое, свободное и бессмертное я!
То, что испытывал Сергей Петрович, было похоже на горделивый и беспорядочный бред мании величия, как думали некоторые, читавшие третье письмо его к Новикову, выдержки из которого мы привели. Писал он его, не одеваясь, на клочке бумаги, оказавшемся счетом от прачки, попало оно к Новикову после долгих мытарств, побывав в полиции и у мирового судьи. Тут же, не отходя от стола, он выпил и яд, и, когда пришла горничная с самоваром, Сергей Петрович был уже без сознания. Раствор яда оказался приготовленным неумелыми руками и слабым, и Сергея Петровича поспели отвезти в Екатерининскую больницу, где он скончался только к вечеру.
Телеграмма к матери Сергея Петровича запоздала, и она приехала уже после похорон. Студенты, вызвавшие ее, находили, что это к лучшему, так как в гробу, с вскрытым и опорожненным черепом и пятнами на лице, Сергей Петрович был очень нехорош и даже страшен и мог произвести тяжелое впечатление. И все, что она нашла от своего сына, заключалось в книгах и подержанном платье, среди которого была и заношенная тужурка, разорванная под мышками и свежепочиненная.
В темную даль
[13]
IУже четыре недели жил он в доме – и четыре недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно-громко и так же неестественно-громко смеялись, но, когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легок и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он», и так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других; слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепьяно, но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса.
Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул; он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне.
– Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антоныч Барсуков? – повторил вошедший свой вопрос.
Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он вполоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал:
– Вам что здесь нужно?
– Не узнал, отец? – насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший. – А ведь я Николай, по отчеству Александрыч.
– Какой… Николай? – отступил на шаг Александр Антонович.
Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холеная борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать губы искали молодых свежих губ и с ненасытной жадностью впивались в них.