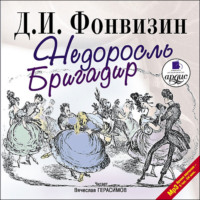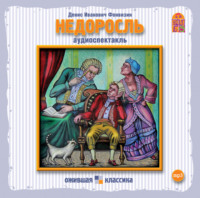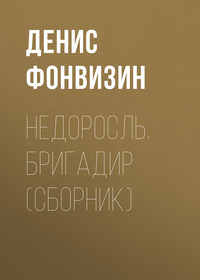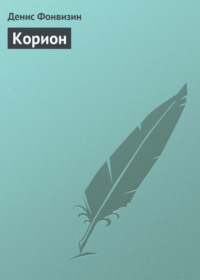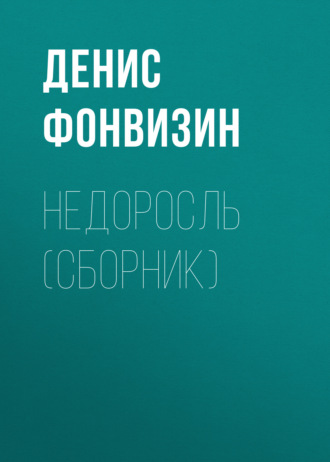 полная версия
полная версияНедоросль (сборник)
Сын. Однако оставим кучера и поговорим об отце моем и о твоем муже.
Советница. Возможно ли, душа моя, с такой высокой материи перейти вдруг в такую низкую?
Сын. Для разумных людей нет невозможного.
Советница. Говори же.
Сын. Нам надобно взять свои меры; prendre nos mesures.[69]
Входят: с одного конца Бригадир, с другого Советник. А они, не видя их, продолжают.
Советница. Я, любя тебя, на все соглашаюсь.
Сын. На все! (Кидается на колени.) Idole de mon âme![70]
Явление III
Те же, Бригадир и Советник.
Бригадир. Ба! Что это? Наяву или во сне?
Советник. С нами Бог! Уж не обморочен ли я?
Сын (вскоча и оторопев). Serviteur trés humble.[71]
Бригадир. Теперь я с тобой, Иван, по-русски поговорить хочу.
Советница (к Советнику). Ты, мой батюшка, вне себя. Что тебе сделалось?
Советник (с яростью). Что мне сделалось, проклятая! А разве не ты, говоря с этой повесою, на все соглашалась?
Сын. Да вы за что меня браните! Пусть изволит меня бранить батюшка.
Бригадир. Нет, друг мой. Я тебя поколотить сбираюсь.
Советница. Как! вы это за то бить хотите, что он из политесу стал передо мною на колени?
Бригадир. Так, моя матушка. Видел я, видел. Поздравляю тебя, братец, переменив зятя на свояка.
Советник. О, Создатель мой Господи! Приходило ль на мое помышление видеть такое богомерзкое дело!
Бригадир. Я, братец, тебе, помнишь, говорил: береги жену, не давай ей воли; вот что и вышло. Мы с тобою породнились, да не с той стороны. Ты обижен, дочь твоя тоже (в сторону), да и я не меньше.
Сын (к Советнику). Не все ли равно, monsieur: вы хотите иметь меня своим свойственником: я охотно…
Советник. О злодейка! ты лишила меня чести – моего последнего сокровища.
Бригадир (осердясь). Ежели у тебя, сват, только сокровища и оставалось, то не слишком же ты богат: не за чем и гнаться.
Советник. Рассуди ж, ты сам разумный человек, и это малое сокровище вверил я вот в какие руки (указывая на жену свою).
Явление IV
Те же, Бригадирша, Софья, Добролюбов.
Бригадирша. Сокровище! Что за сокровище? Никак вы клад нашли! Дай-ка Господи!
Бригадир. Клад не клад, а кой-что нашли, чего и не чаяли.
Бригадирша. Что такое?
Бригадир (указывая на Советника). Вот он в прибылях.
Советник (к Бригадирше). Проклятая жена моя, не убояся Бога, не устыдясь добрых людей, полюбила сына твоего, а моего нареченного зятя!
Бригадирша. Ха-ха-ха! Какая околесица, мой батюшка. У Иванушки есть невеста, так как ему полюбить ее! Это не водится.
Сын. Конечно, не водится; да хотя бы и водилось, то за такую безделицу, pour une bagatelle,[72] честным людям сердиться невозможно. Между людьми, знающими свет, этому смеются.
Бригадир. Кабы кто-нибудь за моей старухой имел дурачество поволочиться, я бы не стал от него ждать дальних разговоров: отсочил бы я ему бока, где ни встретился.
Советник. Нет, сударь мой; я знаю, что с сыном вашим делать. Он меня обесчестил; а сколько мне бесчестья положено по указам, об этом я ведаю.
Бригадирша. Как! Нам платить бесчестье! Напомни Бога, за что?
Советник. За то, моя матушка, что мне всего дороже честь… Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с него и не уступлю ни полушки.
Бригадир. Слушай, брат: коли впрямь дойдет дело до платежа, то сыну моему должно будет платить одну половину, а другую пусть заплатит тебе жена твоя. Ведь они обесчестили тебя заодно.
Бригадирша. И ведомо, грех пополам.
Советница (к мужу). Разве вы не хотите иметь его своим зятем?
Советник. Загради уста твои, проклятая!
Софья. Батюшка! после такого поступка, который сделал мой жених, позвольте мне уверить вас, что я в жизнь мою за него не выйду.
Советник. Я на это согласен.
Добролюбов (к Софье). Надежда мне льстит от часу более.
Бригадир. И я не хочу того, чтоб сын мой имел такую целомудренную тещу; а с тобой, Иван, я разделаюсь вот чем (указывает палкою).
Советник. Так, государь мой, ты палкой, а я монетою.
Сын. Батюшка, вы не слушайте его: он недостоин иметь ее женою.
Советница. Изменник! варвар! тиран!
Советник (оторопев). Что, что такое?
Сын (к Советнику). Разве не я видел, как вы становились на колени перед матушкою?
Бригадир. Кто на колени? Ба! Перед кем?
Сын. Он перед моей матушкой.
Бригадир. Слышишь ли, друг мой? А! Что это?
Советник. Не смею воззрети на небо.
Бригадир (к Бригадирше). Он за тобою волочился, а ты мне этого, дурища, и не сказала!
Бригадирша. Батюшка мой, Игнатий Андреевич, как перед Богом сказать, я сама об этом не ведала; мне после сказали добрые люди.
Бригадир. Брат, с Иваном-то я разделаюсь; а тебе, я вижу, и на меня тоже челобитную подавать приходит, только не в бесчестье, а в увечье.
Советник (иструсясь). Ваше высокородие! И Господь кающегося приемлет. Прости меня, согреших пред тобою.
Сын. Моn père![73] Из благопристойности…
Бригадир. Не учи ты меня, Иван, не забудь того, что я тебя бить сбираюсь.
Советница. Что ж ты и вправду затеял? (Приступя к нему.) Разве не ты объявлял мне здесь, на этом месте, любовь свою?
Советник. Как? Что такое, государь мой?…
Бригадир (тише). Чего изволишь?
Советник. О ком она сказывает?
Бригадир. Обо мне.
Советник. Так ты, государь мой, приехал в дом мой затем разве, чтоб искушать жену мою?
Бригадир. Коли так, то я и назад поеду.
Советник. Не мешкав ни часа.
Бригадир. Ни минуты. Видно, что я к честным и заслуженным людям в руки попался. Иван, вели скорей подать коляску. Жена! Сей минуты выедем вон из такого дому, где я, честный человек, чуть было не сделался бездельником.
Бригадирша. Батюшка мой, дай мне хоть прибрать кое-что.
Бригадир. В чем стоишь, в том со двора долой!
Советник. А что останется, то мое.
Сын (к Советнице кинувшись). Прости, la moitié de mon âme![74]
Советница (кинувшись к Сыну). Adieu,[75] полдуши моей!
Бригадир и Советник кидаются разнимать их.
Бригадир. Куды, собака!
Советник. Куды, проклятая! О Господи!
Бригадир (передразнивая его). О Господи! Нет, брат, я вижу по этому, что у кого чаще всех Господь на языке, у того черт на сердце… Вон, все мои!
Советник (вслед за Бригадиршей, всплеснув руками). Прости, Акулина Тимофеевна!
Явление V
Советник, Советница, Софья, Добролюбов.
Советник. О Господи! Наказуешь нас по делам нашим. А ты, Софьюшка, за что ты лишилась жениха своего?
Добролюбов. Если ваша воля согласится с желанием нашим, то я, став женихом ее, почту себя за преблагополучного человека.
Советник. Как? Ты, получив уже две тысячи душ, не переменяешь своего намерения?
Добролюбов. Меня ничто на свете не привлечет переменить его.
Советник. И ты, Софьюшка, идти за него согласна?
Софья. Если ваше и матушкино желание не препятствуют тому, то я с радостию хочу быть его женою.
Советница. Я вашему счастию никогда не препятвовала.
Советник. Ежели так, то будьте вы жених и невеста.
Добролюбов (Софье). Желание наше совершается; сколь много я благополучен!
Софья. Я одним тобою могу на свете быть счастлива.
Советник. Будьте вы благополучны, а я за все мои грехи довольно Господом наказан: вот моя геенна!
Советница. Я желаю вам счастливой фортуны, а я до смерти страдать осуждена: вот мой тартар!
Советник (к партеру). Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже.
Конец комедииКритика о Д.И. Фонвизине
В. Г. Белинский
…Громозвучные песни Державина были символом могущества, славы и счастия Руси; едкие и остроумные карикатуры Фонвизина были органом понятий и образа мыслей образованнейшего класса людей тогдашнего времени…
Фонвизин был человек с необыкновенным умом и дарованием; но был ли он рожден комиком – на это трудно отвечать утвердительно…
…Его комедии… явились впору и потому имели необыкновенный успех; были выражением господствующего образа мыслей образованных людей и потому нравились. Впрочем, не будучи художественными созданиями в полном смысле этого слова, они все-таки несравненно выше всего, что ни написано у нас по сию пору в сем роде, кроме «Горе от ума», о котором речь впереди. Одно уже это доказывает дарование сего писателя. Прочие его сочинения имеют цену еще, может быть, большую, но и в них он является умным наблюдателем и остроумным писателем, а не художником. Насмешка и шутливость составляют их отличительный характер. Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу, который очень близко подходит к Карамзинскому; особенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие черты духа того любопытного времени.
…Плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она ‹Екатерина II› не смеялась до слез над его «Бригадиром» и «Недорослем»…
«Литературные мечтания», 1834
А. А. Бестужев
Фонвизин в комедиях своих Бригадире и Недоросле в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические творения будут драгоценными для потомства, как съемок (fassimile) нравов того времени.
«Взгляд на старую и новую словесность в России», 1823
Н. В. Гоголь
…Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которые весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая – от дурно понятого просвещенья.
Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына?… Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине, наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, – полное притупленье всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление сделалось ему уже наслажденьем. Словом – лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души…
…Обе комедии ‹«Недоросль» и «Горе от ума»› исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношеньи к герою пьесы, но в отношеньи к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае, то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, – это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину; доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света…
«В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846
И. П. Пнин
‹Д. И. Фонвизин›[76]
Кому из соотечественников наших не известны сочинения г. Фон-Визина, сего знаменитого писателя? Писателя, которому по сие время не было еще у нас достойных подражателей, и не знаю, будет ли когда-нибудь – другой Фон-Визин? Напрасно было бы входить мне в подробное исследование превосходных его как театральных, так и других пиитических творений, которые большая часть людей, словесность любящих, знают почти наизусть; и что, кажется мне, не малым уже послужить может доказательством о их достоинствах и изящности. – Кто не согласится со мною, что вообще во всех его сочинениях блистает отличная острота, видны оригинальные черты пылкого воображения, что краски для писания картин, им употребленные, суть самые живые, трогательные и восхитительные; что рассуждения его точны, основательны; слог исполнен приятности, замысловат и плавен; что критики, им учиненные, благоразумны и умеренны? – С каким искусством мог он обнаружить зловредные пороки, обычаи, нравы, общество в его время заражавшие, и, давая, таким образом, во всей силе чувствовать пагубное оных действие, умел, с другой стороны, с отменною привлекательностью, с особенным чувством представить истинные пользы и побуждать к добродетели. – Самая сухая нравственность под пером его имеет свои прелести и занимательна. – К сему можно присовокупить еще, что число переводов его хотя и не велико, однако ж все они прекрасны и не менее доказывают вкус его, как и знание в выборе оных. – Фон-Визина нет более! – Российский театр лишился в нем своего Молиера. Словесность – нужнейшего ей сотрудника, члена, славу ей приносившего. Отечество потеряло в нем верного сына, доброго гражданина. – Его нет более. – Но доколе свет наук будет озарять отечество наше, он всегда будет почтен, и творения его останутся навсегда драгоценным памятником для его читателей.
«Санкт-Петербургский журнал», 1798
П. А. Вяземский
(Из книги «Фон-Визин»)
Глава VIII
Что сказано Лагарпом о Мольере, еще с большею справедливостью может быть у нас применено к Фонвизину: «Похвала писателя заключается в его творениях. Можно сказать, что похвала Мольеру заключается в предшественниках и преемниках его». Поистине, читая Фонвизина, чувствуешь часто недостатки его; читая писавших у нас для комической сцены прежде и после его, удивляешься одному его превосходству. Фонвизин не был решительно драматиком, не был и комиком, даже каков, например, Княжнин; по крайней мере в художественном отношении последний был изобретательнее его в распоряжении, в хозяйственном устройстве комедии. Басня обеих комедий автора нашего слаба и бедна, в картине его есть игривость и яркость, но нет движения: это говорящая картина – и только; но и то говорят в ней не всегда участвующие лица, а часто говорит сам автор. Все это правда; но живое чувство истины, мастерское изображение портретов с натуры, хотя и не во весь рост, удачная съемка русских нравов без примеси красок чуждых или неестественных, свобода и оригинальность, с которою выливается у него комическая фраза, русская веселость, которая должна существовать, как есть русская физиогномия физическая и нравственная, все это образует характер автора и отличительное достоинство его, неоспоримое, неотъемленное. В слоге его есть какое-то движение, какая-то комическая мимика, приспособленные с большим искусством к действующим лицам его. Определить, в чем состоит она, невозможно; но чувство ее постигает.
«Бригадир» более комическая карикатура, нежели комическая картина; но здесь карикатурный отпечаток не признак безвкусия, а выражение ума оригинального: тут есть поэзия веселости. Портретный живописец несколько идеализирует свой подлинник с целью изящною; карикатурный мастер идеализирует свой в смешном и уродливом виде; но и тот и другой не изменяют истине. Дидерот (написавший весьма замечательное рассуждение о драматической поэзии, в котором из-за мрака парадоксов блещут много светлых и смелых истин) сравнивает фарсы с гротесками Кало (Calot), в коих сохранены главные черты человеческого лица. «Не каждому дана возможность, – говорит он, – уродовать таким образом. Если полагают, что гораздо более людей, способных написать Пурсоньяка, нежели Мизантропа, то ошибаются».
Может быть, мысль представить шестидесятилетнего бригадира, влюбившегося нечаянно в советницу, которую узнал он недавно, а советника, также скоропостижно влюбившегося в старую бригадиршу, не совсем правдоподобна: тут есть какая-то симметрия в волокитстве, которая забавна в последствиях своих, но неестественна в начале. Допустим еще грехопадение советника, лицемера и святоши, который насильно выдает дочь свою за сына бригадирши, чтобы по родству чаще видеться с возлюбленною сватьею, хотя и старухою, как значится из дела, но дурачество и поползновение к соблазну бригадира, который выведен на сцену человеком грубым, но довольно благоразумным, кажется, решительно противоречит истине. Зато с какою непринужденною веселостью исполнена эта мысль! Как хорошо явление, где советник, прикрывая грешные желания свои святостию речей, признается бригадирше в любви, а она отвечает ему с простотою, что она церковного-то языка столько же мало смыслит, как и французского, которым, на беду ее, щеголяет сын, недавно возвратившийся из Парижа! Открытие в любви бригадира пред советницею хотя не так оригинально, но в свою очередь забавно. Объяснение же во взаимной любви советницы и бригадирского сынка, жениха падчерицы ее, не только исполнено комической веселости, но и комической истины; оно совершенно в провинциальных нравах, разгадывается на картах и вырывается восклицаниями: «Ты керовая дама!», «Ты трефовый король!» Как живо переносит нас сие явление во времена простосердечного волокитства, которое, не ломая головы над сочинением любовных писем, выражало себя просто симпатическими мастями или конкретными билетцами, писанными Сумароковым для обихода страстных любовников! Жаль нравственности, но всех бледнее и всех скучнее в комедии законная любовь Софьи и Добролюбова, довершающая общую картину нежных склонностей, превративших дом советника в уголок Аркадии. В «Бригадире» в первый раз услышали на сцене нашей язык натуральный, остроумный; вот где Фонвизин является писателем искусным, а не в мнимом высоком слоге, начиненном славянскими выражениями, пред коими так умильно раболепствуют наши критики. В разговоре действующих лиц можно заметить несколько натяжек, несколько эпиграмм, слишком увесистых, не отлетающих от разговора, но брошенных поперек его самим автором. Кое-где встречают шутки, так сказать, слишком заряженные: шутка, слишком туго набитая, как орудие не попадает в цель, разрывается в сторону. Таковы многие из речей, относящихся до Парижа, до несчастия быть русским и тому подобные. Можно заметить некоторые отступления, охлаждающие разговор; так, например, в явлении между советником и дочерью его, вместо того чтобы говорить о предстоящем ей браке, они рассекают смысл слов виноватый и правый. Впрочем, Фонвизин был большой охотник до сей анатомии слов и часто рассекал их мыслью острою и проницательною. Все критические замечания наши подтверждают сказанное выше: Фонвизин не был драматическим творцом, а только писателем комическим, в чем большая разница. Выступая на театр, он не был побуждаем желанием творить, испытывать силы и соображения свои в устроении жребия лиц, коими населял свою сцену. Драматический писатель есть некоторым образом провидение мира, им созданного: он также должен по таинственным путям вести создания свои к цели, оправдывающей предназначения его; должен из противоречий, из сшибок страстей и польз извлечь одно целое, из разногласий согласие, из беспорядков порядок. Фонвизин не имел в виду сих обширных предначертаний: он хотел просто вылить в некоторые из драматических форм частные свои наблюдения, свои мысли о том и о сем, расцветить кистью своею лица, которые встречал в обществе или которые представляло ему воображение, созидая вымышленные образы по чертам и очеркам действительных.
Влияние, произведенное комедиею Фонвизина, можно определить одним указанием: от нее звание бригадира обратилось в смешное нарицание, хотя сам бригадирский чин не смешнее другого. Нарицание пережило даже и самое звание: ныне бригадиров уже нет по табели о рангах, но есть еще род светских староверов, к которым имя сие применяется. Кажется, в Москве бригадирство погребено было смертью одних и почетною метемпсихозою прочих. Петербургские злоязычники называют Москву старою бригадиршею.
В комедии «Недоросль» автор имел уже цель важнейшую: гибельные плоды невежества, худое воспитание и злоупотребления домашней власти выставлены им рукою смелою и раскрашены красками самыми ненавистными. В «Бригадире» автор дурачит порочных и глупцов, язвит их стрелами насмешки; в «Недоросле» он уже не шутит, не смеется, а негодует на порок и клеймит его без пощады: если же и смешит зрителей картиной выведенных злоупотреблений и дурачеств, то и тогда внушаемый им смех не развлекает от впечатлений более глубоких и прискорбных. И в «Бригадире» можно видеть, что погрешности воспитания русского живо поражали автора; но худое воспитание, данное бригадирскому сынку, это полупросвещение, если и есть какое просвещение в поверхностном знании французского языка, в поездке в чужие края без нравственного, приготовительного образования, должны были выделать из него смешного глупца, чем он и есть. Невежество же, в котором рос Митрофанушка, и примеры домашние должны были готовить в нем изверга, какова мать его, Простакова. Именно говорю: изверга, и утверждаю, что в содержании комедии «Недоросль» и в лице Простаковой скрываются все пружины, все лютые страсти, нужные для соображений трагических; разумеется, что трагедия будет не по греческой или по французской классической выкройке, но не менее того развязка может быть трагическая. Как Тартюф Мольера стоит на меже трагедии и комедии, так и Простакова. От авторов зависело ее и его присвоить той или другой области. Характер и личность остались бы те же, но только приноровленные к узаконениям и обычаям, существующим по одну или другую сторону литературной границы. Что можно назвать сущностью драмы «Недоросля»? Домашнее, семейное тиранство Простаковой, содержащей у себя, так сказать, в плену Софью, которую приносит она на жертву корыстолюбию своему, выдавая насильно замуж сперва за брата, а потом за сына. Как характеризована она самим автором? Презлою фуриею, которой адский нрав делает несчастие целого дома. Все прочие лица второстепенны: иные из них совершенно посторонние, другие только примыкают к действию. Автор в начертании картины дал лицам смешное направление; но смешное, хотя у него и на первом плане, не мешает разглядеть гнусное, ненавистное в перспективе. В семействах Простаковых, когда, по несчастию, встречаются они в мире действительности, трагические развязки не редки. Архивы уголовных дел наших могут представить тому многочисленные доказательства. Вот нравственная сторона творения сего, и патриотическая мысль, одушевляющая оное, достойна уважения и признательности! Можно сказать, что подобное исполнение не только хорошее сочинение, но и доброе дело, что, впрочем, можно применить и ко всякому изящному творению, ибо нет сомнения, что оно всегда имеет нравственное действие. Между тем и комическая сторона «Недоросля» не менее удачна. В сей драме заметен один недостаток, уже замеченный выше: недостаток изобретения и неподвижность события. Из сорока явлений, в числе коих несколько довольно длинных, едва ли найдется во всей драме треть, и то коротких, входящих в состав самого действия и развивающихся из него, как из драматического клубка.