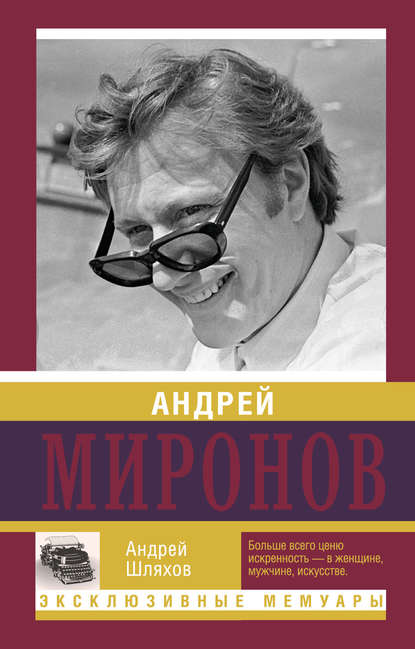полная версия
полная версияСлезинка ребенка. Дневник писателя
Успокоив вас, попрошу вас обратить внимание на заглавие вашей полемической статьи: «Холостые понятия о женатом монахе».
И мимоходом спрошу: к чему тут «холостые»? Насколько изменятся понятия, если они будут женатые? И разве есть холостые понятия и женатые понятия? Ну да вы не литератор, и все это вздор; вы – взволнованный священник Касторский, и с вас слогу нечего спрашивать, особенно в таком состоянии. Главное дело вот в чем: кто вам сказал, что наш дьячок поступил в монахи? Где, во всей повести г-на Недолина, нашли вы, что он постригся? Между тем это очень важно; озаглавив таким образом, вы читателя, незнакомого с повестью г-на Недолина, прямо вводите в недоумение: «Да, действительно, – подумает он, – женатый дьячок не мог поступить в монахи! Как же этого не знает „Гражданин“»? Таким образом, отведя словом «монах» глаза читателю, вы уже победоносно восклицаете в средине вашей статьи:
«Какая жалкая, невозможная и смешная небылица!.. Как же не знать того редактору г-ну Достоевскому, который» и т. д….
А между тем вы просто-запросто подтасовали дело, и я преспокойно ловлю вас на плутне. Но вы немножко ошиблись, батюшка, и рассчитали без хозяина. Женатого в монахи не постригут, это так; но почему «никакое монастырское начальство имеющего живую жену в монастырь не примет», как утверждаете вы с азартом? Это откудова почерпнули вы такое известие? Кто-нибудь, например, имел бы намерение поселиться в монастыре (где есть, например, удобное помещение), но он женат, жена его где-нибудь в столице или за границей, и вот, потому только, что он женат, его гонят вон из монастыря? Так ли это? Не знаете дела, батюшка, а еще духовное лицо. Я вам даже смог бы указать на некоторые известные всему петербургскому обществу лица, памятные в обществе до сих пор и которые кончили тем, что поселились жить под конец жизни в монастырях и вот уже живут там очень долго, а между тем женаты и жены их живы до сих пор. Все произошло с обоюдного согласия. Так точно поселился жить в монастыре и дьячок г-на Недолина. Уничтожьте только подтасовку пострижения в монахи, с умыслом вами придуманную и чего совсем нет во всей повести г-на Недолина, и вам тотчас же все объяснится. Тут даже лучше, чем с «обоюдного согласия», произошло; тут прямо произошло с соизволения начальства. Я вас, батюшка, имею средства на этот счет в высшей степени успокоить. Предположите, что я навел справки и вот какие получил сведения:
Во-первых, артист-дьячок еще за полгода до поступления в монастырь, когда при прощании с помещиком открылся ему в первый раз, что намерен уйти жить в монастырь, уже и тогда знал, что говорил. Именно потому, что уже сообщил о намерении своем отцу Иоанну, игумену монастыря, который его очень любил, то есть более любил его пение, потому что был чрезвычайный любитель музыки и Софрону изо всех сил покровительствовал; даже сам, кажется, и переманивал его жить в монастыре. Дьячок поколебался на предложение помещика ехать за границу и вот почему прождал еще с полгода; но когда кончилось его терпение, ушел в монастырь. Устроить же это было очень легко: отец Иоанн состоял в теснейшей дружбе с епархиальным начальником, а когда два такие лица согласились, то и предлогов не надо. Но наверно был отыскан и предлог, по которому дьячок был, так сказать, «откомандирован» в монастырь. Обет же, данный дьячком, «посвятить себя Господу» (на что вы так особенно сердитесь) был совершенно свободный, внутренний, неофициальный, дело его совести, дан самому себе. Мало того, в рассказе г-на Недолина есть совершенно ясное указание на то, что дьячок только проживал в монастыре, а отнюдь не был пострижен в монахи, как вы с такою бесцеремонностию присочинили, батюшка. Именно: воротившийся помещик все еще уговаривает Софрона выйти из монастыря и отправиться за границу, и дьячок в первый день переговоров даже колеблется. Ну могло ли бы это быть, если б Софрон был уже пострижен? Не маскируйте, наконец, и того, что ведь это был артист неслыханный, по крайней мере одаренный неслыханно, и таким он заявляется в повести с самого начала. А если так, то понятно и такое пристрастие к нему отца Иоанна, страстного любителя музыки…
«Но ведь это не объяснено в повести!» – воскликнете вы в чрезвычайном гневе. Нет, отчасти объяснено; очень о многом можно догадаться из рассказа, хотя он быстр и краток. Но, положим, и не все объяснено, – зачем объяснять? Было бы только вероятно; а уничтожьте подтасовку пострижения в монахи, и все станет вероятно. Да, рассказ г-на Недолина несколько сжат, но знаете, батюшка, вы вот человек не литературный, что и доказали, а между тем я вам прямо скажу, что ужасно много современных повестей и романов выиграли бы, если б их сократить. Ну что толку, что автор тянет вас в продолжение тридцати листов и вдруг на тридцатом листе ни с того ни с сего бросает свой рассказ в Петербурге или в Москве, а сам тащит вас куда-нибудь в Молдо-Валахию, единственно с тою целью, чтоб рассказать вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдо-валахской крыши, и, рассказав, вдруг опять бросает и ворон и Молдо-Валахию, как будто их не бывало вовсе, и уже ни разу более не возвращается к ним в остальном рассказе; так что читатель остается, наконец, в совершенном недоумении. Из-за денег пишут, чтобы только больше страниц написать! Г-н Недолин написал иначе и хорошо, может быть, сделал.
«Но жена, жена! – восклицаете вы, вращая глазами. – Как же жена позволила и не жаловалась, как „не вытребовала“ она его законом, силой!» А вот тут-то вы, и именно на женском-то этом пункте, всего больше и спасовали, батюшка. Вы ведь до того разыгрались в вашей статье, что даже сами принялись сочинять роман, а именно как жена своего дьячка наконец воротила и опять начала колотить, как он «сбежал» в другой монастырь, как из другого воротила, как он сбежал наконец на Афон и там уже успокоился под «мусульманским» управлением султана (представьте, а ведь я до сих пор думал, что султан христианин!).
Шутки в сторону; знайте, батюшка, что хоть вам бы и следовало, уже по одному сану вашему, немножко знать сердце человеческое, но вы его вовсе не знаете. Вы хоть и плохой сочинитель, но, может быть, если бы взялись за перо, действительно описали бы бытовую сторону духовенства вернее г-на Недолина; но в сердце человеческом г-н Недолин знает более вашего. Женщина, которая целые дни выстаивает у монастырской стены и плачет, не пойдет подавать просьбы и не станет уже действовать силой. Довольно силы! У вас вот все битье да битье; в порыве авторского увлечения вы продолжаете роман, и опять у вас битье. Нет, уж довольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя в «Женитьбе», в последней сцене, после того как Подколесин выпрыгнул в окошко, Кочкарев кричит: «Воротить его, воротить!», воображая, что выпрыгнувший в окошко жених все еще пригоден для свадьбы. Ну вот точно так же рассуждаете и вы. Кочкарева останавливает сваха словами: «Эх, дела ты свадебного не знаешь; добро бы в дверь вышел; а уж коли в окно махнул, так уж тут мое почтение». Облагородьте случай с Подколесиным, и он как раз придется к положению бедной, оставленной мужем дьячихи. Нет, батюшка, битье кончилось! Эта женщина, – этот исключительный характер, страстное и сильное существо, гораздо высшее, между прочим, по душевным силам, чем артист, ее муж, – эта женщина под влиянием среды, привычек, необразованности могла действительно начать битьем. Толковому, понимающему человеку тут именно реализм события понравится, и г-н Недолин мастерски поступил, что не смягчил действительности. Слишком сильные духом и характером женщины, особенно если страстны, иначе и не могут любить, как деспотически, и имеют даже особенную наклонность к таким слабым, ребяческим характерам, как у артиста-дьячка. И за что она так полюбила его? разве она знает это! Он плачет, она не может не презирать его слез, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается его слезами. Она ревнива: «Не смей петь при господах!» Она бы, кажется, проглотила его живьем из любви. Но вот он бежал от нее, и – никогда бы она тому не поверила! Она горда и самонадеянна, она знает, что красавица, и – странная психологическая задача, – поверите ли, ведь она все время была убеждена, что он точно так же ее без памяти любит, как и она его, без нее жить не может, несмотря на битье! Ведь в этом состояла вся ее вера; мало того, тут и сомнений для нее не существовало, и вдруг ей все открывается: этот ребенок, артист ее нисколько не любит, давно уже перестал любить, может быть, никогда не любил и прежде! Она вдруг смирилась, поникла, раздавлена, а отказаться от него все-таки не в силах, безумно любит, еще безумнее, чем прежде. Но так как характер сильный, благородный и необыкновенный, то и вырастает вдруг неизмеримо и над прежним бытом, и над прежней средой своей. Нет, уж теперь она его не потребует силой. Силой ей его теперь и даром не надо; она все еще неизмеримо горда, но гордость эта уже другого рода, уже облагородилась: она скорее умрет с горя тут же, в траве у ограды, а не захочет употребить насилие, писать просьбы, доказывать права свои. Ах, батюшка, да ведь в этом и вся повесть, а вовсе не в бытовой стороне церковников! Нет, батюшка, этот крошечный рассказик гораздо значительнее, чем вам кажется, и поглубже. Повторяю, вы так не напишете, даже не поймете в чем дело. У вас отчасти душа кочкаревская (в литературном отношении, разумеется, – далее я не иду), как и имел я вам честь заметить…
Что же касается до сочинительства вашего и до понимания художественного, то к вам в этом отношении вполне, я думаю, можно приложить известную эпиграмму Пушкина:
Картину раз высматривал сапожник,И в обуви ошибку указал;Взяв тотчас кисть, исправился художник.«Вот», подбочась, сапожник продолжал:«Мне кажется, лицо немного криво…А эта грудь не слишком ли нага?»Но Апеллес прервал нетерпеливо:«Суди, дружок, не свыше сапога!»Вы, батюшка, точь-в-точь как этот сапожник, с тою только разницею, что даже и в обуви не сумели указать г-ну Недолину, что, надеюсь, я вам и доказал основательно. А подтасовкой ничего не возьмете. Тут, видите ли, чтобы понимать что-нибудь в душе человеческой и «судить повыше сапога», надо бы побольше развития в другую сторону, поменьше этого цинизма, этого «духовного» материализма; поменьше этого презрения к людям, поменьше этого неуважения к ним, этого равнодушия. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше веры, надежды, любви! Посмотрите, например, с каким грубым цинизмом обращаетесь вы со мной лично, с каким совсем несвойственным вашему сану неприличием говорите о чудесах. Верить не хотел, когда прочел у вас следующее про себя: «…но как же не знать этого редактору г-ну Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве, может быть, он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам, – тогда это другое дело…»
Во-первых, батюшка, вы и тут сочинили (экая ведь страсть у вас к сочинительству!). Никогда и нигде не объявлял я о себе лично ничего о вере моей в чудеса. Все это вы выдумали, и я вас вызываю указать: где вы это нашли? Позвольте еще: если б я, Ф. Достоевский, где-нибудь и объявил это о себе (чего не было), то уж, поверьте, не отказался бы от слов моих ни из-за какого либерального страху или страху ради Касторского. Просто-запросто ничего подобного не было, и я только констатирую факт. Но если бы и было – что вам-то до веры моей в чудеса? Чем они подходят к делу? И что такое мудреные чудеса и немудреные? Как уживаетесь вы с подобными разделениями сами? Вообще же желаю, чтобы в этом отношении вы оставили меня в покое – уже хоть по тому одному, что приставать ко мне с этим вовсе к вам не идет, несмотря на все современное просвещение ваше. Духовное лицо, а так раздражительны! Стыдно, г-н Касторский.
* * *А знаете, ведь вы вовсе не г-н Касторский, а уж тем более не священник Касторский, и все это подделка и вздор. Вы ряженый, вот точь-в-точь такой, как на святках. И, знаете, что еще? Ни единой-то самой маленькой минутки я не пробыл в обмане; тотчас же узнал ряженого и вменяю себе это в удовольствие, ибо вижу отсюда ваш длинный нос: вы вполне были уверены, что я шутовскую маску, вывесочной работы, приму за лицо настоящее. Знайте тоже, что я и отвечал вам немного уже слишком развязно единственно потому, что сейчас же узнал переряженного. Если бы вы были в самом деле священником, я, несмотря на все ваши грубости, которые в конце вашей статьи доходят до какого-то победоносно-семинарского ржанья, все-таки ответил бы вам «с соблюдением», – не из личного к вам уважения, а из уважения к вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается. Но так как вы всего только ряженый, то и должны понести наказание. Наказание начну с того, что объясню вам подробно, почему вас узнал (между нами, я даже предугадал, кто именно под маской скрывается; но имя вслух не объявлю, а оставлю при себе до времени), и это вам, естественно, будет очень досадно…
– А если предугадали, то почему же отвечали как священнику, – спросите вы, – к чему написали предварительно столько лишнего?
– А по платью встречают, – отвечаю я вам, – и если написал что-нибудь неприятное г-ну «священнику», то уж пусть возьмет это на свою совесть тот господин, который выдумал и употребил недостойный прием перерядиться в священника. Да, недостойный прием, и он сам это чувствовал. Мало того, он, сколько мог, оберег себя. Он не подписался «Священник П. Касторский», а подписался сокращенно: «Свящ. П. Касторский». Свящ. все-таки не священник, если уж крепко обличат. Всегда можно сказать, что подразумевался «священнолюбец» или что-нибудь в таком роде.
Я узнал вас, г-н ряженый, по слогу. Видите ли, в чем тут главная штука: в том, что современные критики и хвалят, пожалуй, иногда современных писателей-художников, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконец, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большею частию, смахивают на вывескных маляров, а не на живописцев. Не все, конечно. Есть некоторые и с талантом, но большая часть самозванцы. Во-первых, г-н ряженый, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч)., обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот нумеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характерностями сплошь, по записанному, – и выходит неправда. Выведенный тип говорит как по книге. Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете.
И большею частию работа вывескная, малярная. Между тем «художник» считает себя под конец за Рафаэля; и не разуверишь его! Записывать словечки хорошо и полезно и без этого нельзя обойтись; но нельзя же и употреблять их совсем механически. Правда, есть оттенки и между «художниками-записывателями»; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все-таки избежать не может. Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное – золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников. Мало веры. Чувство меры уже совсем исчезает. Взять и то, наконец, что наши художники (как и всякая ординарность) начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность и обрабатывать данный тип в искусстве уже тогда, когда большею частию он проходит и исчезает, вырождается в другой, сообразно. с ходом эпохи и ее развития, так что всегда почти старое подают нам на стол за новое. И сами верят тому, что это новое, а не преходящее. Впрочем, подобное замечание для нашего писателя-художника несколько тонко; пожалуй, и не поймет. Но я все-таки выскажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип современно и подает его своевременно; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски и работая по заготовленным уже шаблонам.
Я, например, не встречал еще ни одного священника во всю мою жизнь, даже самого высокообразованного, совершенно без всяких характерных особенностей разговора, относящихся до его сословной среды. Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тем если б дословно стенографировать его разговор и потом напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразованного и долго бывшего в обществе священника и не заметите никакой особенной характерности. Нашему «художнику» этого, естественно, мало, да и публика к другому приучена. Простонародье, например, в повестях Пушкина, по мнению большинства читателей, наверно говорит хуже, чем у писателя Григоровича, всю жизнь описывавшего мужиков. Я думаю, и по мнению многих художников тоже. Не вытерпит он, что священник, например, говорит почти безо всякой характерности, зависящей от сословия, от среды его, а потому и не поместит его в свою повесть, а поместит характернейшего. Таким образом, современного священника, при известных обстоятельствах и в известной среде, заставит говорить иногда как священника начала столетия и тоже при известных обстоятельствах и известной среде.
Священник Касторский начинает, как и все, некоторое время почти совсем не напоминая собою известной среды.
Пока он хвалит художественность писателя Лескова, он говорит, как и все, безо всякой характерности словечек и мыслей, обличающих сословие. Но так было надо автору: надо было его оставить в покое, чтобы литературная похвала вышла серьезнее, а порицание г-ну Недолину строже, ибо смешная и характерная фраза нарушила бы строгость. Но вдруг автор, сообразив, что ведь, пожалуй, читатель и не поверит, что священник писал, пугается и разом бросается в типичности, и уже тут их целый воз. Что ни слово, то типичность! Из такой суматохи, естественно, выходит типичность фальшивая и непропорциональная.
Главный признак человека необразованного, но почему-нибудь принужденного заговорить языком и понятиями не своей среды, – это некоторая неточность в употреблении слов, которых он значение, положим, и знает, но не знает всех оттенков его употребления в сфере понятий другого сословия. «…А потому проходить такие вредные покушения…», «…невежестве, обличенном опять в том же журнале…», «…в нем представлен голосистый дьячок…» и т. д. Последнее словцо голосистый уже слишком грубо, и именно тем, что Свящ. Касторский, желая выразить понятие о лице, одаренном прекрасным голосом певца, думает, что выражает это понятие словом «голосистый». Автор-специалист забыл, что хотя в священнической среде и теперь, конечно, встречаются малообразованные люди, но чрезвычайно мало до такой уж степени не понимающих значения слов. Это годится для романа, г-н ряженый, а действительности не выдерживает. Такое ошибочное выражение прилично было бы разве пономарю, а все же не священнику. Не слежу за всеми выражениями далее; повторяю, их там целый воз, чрезвычайно грубо натасканный из тетрадки. Но хуже всего то, что типичник-автор (если говорят о художнике-авторе, то возможно понятие и о ремесленнике-авторе, а слово типичник определяет ремесло или мастерство), что типичник-автор выставил свой тип в таком непривлекательном нравственном виде. Надо бы выставить все-таки в Свящ. Касторском – человека с достоинством, добродетельного, и типичность ничему бы тут не помешала. Но типичник был сам поставлен в затруднительное положение, из которого и не сумел вывернуться: ему непременно надо было обругать своего собрата-автора, наглумиться над ним, и вот свои прекрасные побуждения он, переряженный, поневоле должен был навязать своему священнику. А уж насчет чудес – типичник совсем не сдержал себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо – да еще глумится над чудесами и делит их на мудреные и немудреные! Плохо, г-н типичник.
Я даже думаю, что и «Псаломщик» – произведение того же пера: очень уж перенаивничал неумелый мастеровой в окончании, именно в «опасениях» Псаломщика, которые слишком уж не блистают умом. Одним словом, господа, вся эта вывесочная работа, положим, еще и сойдет в повестях, но, повторяю вам, не выдержит столкновения с действительностию и тотчас же обличит себя. Не вам, господа-художники, надуть старого литератора.
Что же это, шутки, что ли, с их стороны? И, нет – нет, вовсе не шутки. Это – это, так сказать, дарвинизм, борьба за существование. Не смей, дескать, заходить на нашу ниву. И чем мог вам повредить, господа, г-н Недолин? Уверяю же вас, что он вовсе не имеет намерения описывать бытовую сторону духовенства, можете вполне успокоиться. Правда, смутило меня на одно мгновение одно странное обстоятельство: ведь если ряженый типичник напал на г-на Недолина, то, ругая его, в противуположность ему должен бы был хвалить самого себя (на этот счет у этих людей нет ни малейшего самолюбия: с полнейшим бесстыдством готовы они писать и печатать похвалы себе сами и собственноручно). А между тем, к величайшему моему удивлению, типичник выставляет и хвалит талантливого г-на Лескова, а не себя. Тут что-нибудь другое, и, наверное, выяснится. Но ряженый не подвержен ни малейшему сомнению.
А причем же тут сам «Русский мир»? Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с «Русским миром» и не предполагал иметь. Бог знает с чего вскочут люди.
XI. Мечты и грезы
Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени – après moi le déluge. Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «…все эти события меня так убили и потрясли, что я…» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!
Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит – гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Опешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже – что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению – обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, – в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.
Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.