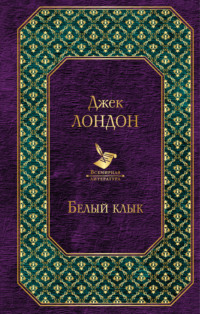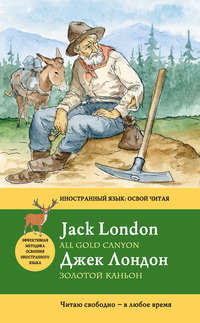Полная версия
Морской волк
Пока Иогансен созывал команду, два матроса, по указаниям капитана, положили зашитое в парусину тело на крышку люка. С обеих сторон палубы были вдоль бортов прикреплены вверх дном небольшие лодки. Несколько человек подняли крышку люка с ее ужасной ношей, перенесли ее на подветренную сторону и положили на лодки, ногами к морю. К ногам привязали мешок с углем, принесенный поваром. Я всегда представлял себе похороны на море как торжественное и внушающее благоговение зрелище, но эти похороны меня разочаровали. Один из охотников, маленький темноглазый человек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал веселые историйки, щедро уснащенные проклятиями и непристойностями, и среди охотников поминутно раздавались взрывы смеха, звучавшие для меня как вой волков или лай адских псов. Матросы шумной толпой собрались на палубе, перебрасываясь грубыми замечаниями; многие из них спали перед тем и теперь протирали сонные глаза. На их лицах лежало мрачное и озабоченное выражение. Было ясно, что им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, да еще при таких печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена; нельзя было не заметить, что они побаиваются его.
Волк Ларсен подошел к покойнику, и все обнажили головы. Я бегло осмотрел матросов – их было двадцать, а включая рулевого и меня – двадцать два. Мое любопытство было понятно: судьба, по-видимому, связывала меня с ними в этом миниатюрном плавучем мирке на недели, а может быть, и на месяцы. Большинство матросов были англичане или скандинавы, и лица их казались угрюмыми и тупыми.
У охотников, наоборот, были более интересные и живые лица, с яркой печатью порочных страстей. Но странно – на физиономии Волка Ларсена не было отпечатка порока. Правда, черты его лица были резки, решительны и тверды, но выражение лица было открытое и искреннее, и это подчеркивалось еще тем, что он был гладко выбрит. Я с трудом поверил бы – если бы не недавний случай, – что это лицо того человека, который мог поступать так возмутительно, как он поступил с юнгой.
Лишь только он открыл рот и хотел заговорить, порывы ветра один за другим налетели на шхуну и накренили ее. Ветер запел в снастях свою дикую песнь. Некоторые из охотников тревожно поглядели наверх. Подветренный борт, где лежал покойник, накренился, и когда шхуна поднялась и выпрямилась, вода помчалась по палубе, заливая нам ноги выше сапог. Внезапно пошел проливной дождь, и каждая его капля била нас так, точно это был град. Когда дождь прекратился, Волк Ларсен стал говорить, а люди с обнаженными головами закачались в такт с подъемами и опусканиями палубы.
– Я помню только одну часть похоронного обряда, – сказал он, – а именно: «И тело должно быть сброшено в море». Итак, бросайте его.
Он смолк. Люди, державшие крышку от люка, казались смущенными, озадаченными краткостью обряда. Тогда он яростно заревел:
– Поднимайте же с этой стороны, будьте вы прокляты! Какой черт вас держит?!
Поспешно подняли испуганные матросы край крышки, и, как собака, перекинутая через борт, мертвец, ногами вперед, скользнул в море. Привязанный к его ногам уголь потянул его вниз. Он исчез.
– Иогансен! – резко крикнул Волк Ларсен своему новому штурману. – Задержи всех людей наверху, раз они уже здесь. Убрать марселя и сделать это как следует! Мы входим в зюйд-ост. Возьмите рифы на кливере и гроте[10] и не зевайте, если принялись за работу!
В один миг вся палуба пришла в движение. Иогансен заревел, как бык, отдавая приказания, люди стали травить канаты, и все это, конечно, было ново и непонятно для меня, сухопутного жителя. Но всего больше поразила меня общая бессердечность. Мертвец был уже прошедшим эпизодом. Его сбросили, зашитого в парусину, а судно шло вперед, работа на нем не прекращалась, и никого это событие не затронуло. Охотники смеялись новому рассказу Смока, команда тянула снасти, и два матроса взбирались наверх; Волк Ларсен изучал сумрачное небо и направление ветра… А человек, так непристойно умерший и так недостойно погребенный, опускался в морскую глубину все ниже и ниже.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Каюта на верхней палубе.
2
Поплавок из дерева, железа или меди сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом.
3
Колесо с ручками для вращения румпеля – рычага, поворачивающего руль.
4
Левиафан – в древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся.
5
Старинная церковь St. Mary-Bow, или просто Bow-church, в центральной части Лондона – Сити; все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют «соспеу».
6
Сардонический – желчный, злой, язвительный.
7
Верхняя палуба от бушприта до фок-мачты (то есть от носа корабля до первой мачты).
8
Мегафон – усовершенствованный рупор.
9
Фриско – сокращенное название города Сан-Франциско.
10
Марселя – средние (считая по вертикали) паруса на первой и второй мачтах (фок- и грот-мачта). Кливер – косой парус перед фок-мачтой (первой от носа корабля). Рифы берутся у парусов для уменьшения площади прямых парусов, захватывая часть парусов короткими веревками – риф-сезнями. Взятие рифов – очень трудный маневр.