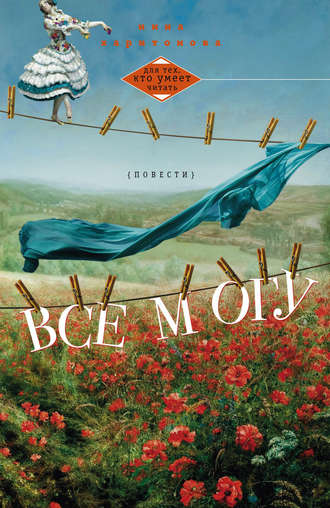
Полная версия
Все могу (сборник)
«На что намекаешь?» – злилась Валя, но сундуки в душе ободряла, красочно, у Машкиного даже петушки нарисованы. Обижалась же на намеки, ведь была уже слишком в теле, и правда, нагибаться тяжело: ноги – бульонки, попа – самовар, сиськи – подушки.
Маше такая мать не нравилась. Она ее мучительно стеснялась. Придет Валя за ней в школу, встанет на крыльце, а Маша в раздевалке отсиживается, чтобы все ушли и никто ее с этой толстухой не видел. Знала бы Валя! Она для Машки все. Простужаешься – на флейту тебя. Легкие слабые – на хор. Рисовать хочешь, как папа, – в художественную школу. Надоела флейта? На саксофон хочешь с мальчиками в оркестр? Можно, конечно. Никакого отказа в образовании. Прочь хозяйство и страшный быт. Каждый выходной – музей, цирк, театр. В Москве живем, Машенька, понимаешь, столько здесь всего! Маша понимала. Послушная росла девочка, спокойная. Никаких с ней недоразумений. И еще хорошо, что Маша, а не Ассоль, не тянула она на такое имя. Толстые щечки, глазки поросячьи, фигура невнятная и такая же одежда. А хотелось джинсы синие. Но на одежду мать не тратилась, считала, что рановато еще наряжать, вот в институте – тогда да, надо обязательно.
Сказать, что Валя дочку любила, – почти промолчать. Машу она безгранично превозносила, соорудив ей трон из всех своих надежд и усадив Машу на шелковые покрывала обожания. Если кто-то спрашивал о девочке, Валя рассыпалась в пленительных подробностях Машиных успехов: «Да я-то что. Съездила, да, в Чехословакию, а Маша участвовала в отчетном концерте, выступала вторая после самого Григоровского… Что привезла, спрашиваете? Книги, конечно, Машеньке альбом Альфонс Муха, она же так, знаете, удивительно рисует, так чисто чувствует цвет. А цвет, Саша говорит, показатель таланта. Что, простите, Прага? Прекрасна, просто неземная. Вероятно, Машеньку тоже надо было с собой взять, она бы потом рисовала этот город, реку. Понимаете, архитектура очень даже Машеньке покоряется в рисунке. Хотя другим…»
«Мам, а можно я буду тебя называть Валентина Егоровна?» – спросила как-то Маша. И Валентина Егоровна сначала не поняла вопроса, потом решила – шутка, и только прикрутив звук проигрывателя, откуда пела «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку», внимательно посмотрела на дочку, сглотнула и кротко спросила: «Почему, дочка?» Маша вернула звук на нужное ей место, пожала плечами и безжалостно ответила: «Потому».
Валентина Егоровна высоко задумалась. Ее мысли плыли над Чертановом, поворачивали неспешно на юг в Алексинский район Тульской области, делали петлю и возвращались. Валя четко увидела, что попала в замкнутый круг тотальной нелюбви и теперь все – мучайся с рождения до смерти, никто не полюбит, это как опасная вирусная зараза, не вылечивается. Валя почти никогда не плакала, но тут зарыдала. Маша испугалась, бросилась, гладила по волосам, нудно плакала сама. А Валя закаменела, как будто ничего не видела, и, главное, не успокаивалась. Истерика была уже судорожной, и неизвестно чем бы кончилось, но пришел отец. Сказал простое, какое-то даже абсурдное слово, Валя все хотела вспомнить его потом, и плач прекратился. Валентина умылась, Маша вытерлась рукавом, и стали жить дальше. Надо ли говорить, что после этого дня Валентина полюбила дочку сильнее прежнего, счастьем окутала, светом осияла.
Квартиру дали неожиданно, когда Валя уже почти отчаялась, дожидаясь подписания одних бумаг, согласования других инстанций, закружившись в канцелярской и бюрократической суете, изматывающей и беспорядочной. Но переезд случился не быстрый, ждали, когда Машка девятый класс закончит. Не Бронная, конечно, Борисовские пруды, но, как и полагается, три комнаты, два балкона, широкий коридор и никаких соседей. Это была долгожданная победа, но, странно, Валя не испытывала радости, а лишь одно раздражение. Бесило все: нет метро, плохая школа, нет телефона, вода из речки почему-то хлоркой воняет. Даже Саша бесил меньше, чем эта квартира. Раньше хоть звонил: «Я у Петрова», а теперь пропадал неделями, на работу Вале тоже не дозвонишься, трубку специально снимали.
На самом деле Вале с этой квартирой повезло по-крупному, почти уже никому не давали жилье в те годы. Валя выгрызла, как у волка. Но что-то определенно потеряла, и это что-то было вполне уловимым – борьбу. «В войне не принимали участия три армии: шведская, турецкая и 23-я советская». Валина армия тоже бездействовала. Не было теперь нужды в контрударах и многоэтажных спецоперациях. Валина мировая война была самой длинной в истории, продолжалась тринадцать лет и один месяц и завершилась трудной победой квадратных метров над силой духа. Валя сидела в двенадцатиметровой кухне на табуретке, широко расставив ноги, толстые ляжки иначе до мозолей стирались, курила и ничего, кроме опустошения, не чувствовала.
Работу, конечно, Валентина поменяла. Машку отправила в училище на швею, размыслив, что готовое ремесло все лучше, чем школьные уроки.
Саша на Валиной родине памятник участникам Великой Отечественной войны заканчивал – искренний и честный монумент. Жив еще Сашин талант, жив. А отец вот Валин не дожил до триумфа семьи.
«Не хотите к нам вернуться, Валентина Егоровна?» – спросил местный начальник на торжественном открытии в День Победы не как у жены автора проекта, а как у очень нужного для области человека. И это тоже была победа. Валя улыбнулась: «Да ведь некуда». Так в родной деревне Вале достался почти за бесценок огромный участок с домом-завалюшкой. Саша смеялся: «Валюшка в завалюшке». Дом сломали, решили строиться. Бей лапками, бей.
Хлопот прибавилось.
Валя поначалу часто думала: правильно ли поступила? Может, надо было в их СНТ участок приобрести? Но там давали только клочок, а здесь два гектара – кто бы их еще считал. Здесь родина, а там расчерченное поле. Здесь из родных только груши, зато там две подруги. Никого близких в ее деревне не осталось, даже слегка знакомых – четыре дома. Отжила свое деревня, отгуляла и стояла теперь разбросанная и полусохранная, как улыбка старика.
А Валя везде договаривалась, просила, требовала, организовывала доску, кирпич, цемент, стекло и всякую мелочь, которая необходима в строительстве. Платила за все практически тоже только Валя. Саша же строил. С увлечением, выдумкой, особой архитектурной мыслью, не реализованной в бесконечных поисках собственного места в искусстве и так хорошо приходившейся здесь. Все очень отрадно получалось. Одна баня – удивление шесть на восемь и те же три комнаты. Дом кирпичный, пока не смотрите, недоконченный. Придумал еще капитальный навес, как в заграничных журналах, для уличной печки, стола и скамеек. Валюша виноград присадила, закудрявился деревенский очаг. Но, к сожалению, по всем признакам уже дотлевал очаг семейный. Нелепо не совпадала семья в желаниях, во времени, в чувствах.
Валя, прикоснувшись к земле, во многом поменялась, будто земля обладала волшебными качествами. Даже правильнее сказать, не поменялась, а отре шилась. Она не перестала быть веселой, в принципе бабой, но вектор ее стремлений был направлен все больше в сторону деревни, молчаливых и нескончаемых дел.
Лето – в деревне. Все сразу вспомнилось из детства. Где полянка безоглядная с земляникой. Где грибов белых море. Где травка какая полезная. А как же работа? Я даже сало сама копчу. Чао, работа! У меня уже пенсия, между прочим, досрочная. А в осенне-зимний период я убираюсь в квартире известной артистки, она в группе поет. И еще в одной семье. Нет, мне не стыдно. Я ж не ворую. А что – Саша? Он устроен. У него полставки в банановом институте. В Патриса Лумумбы. В Дружбе народов. Как что делает? Преподает. Архитектуру. А Машенька на журфак пошла. С университетом нет, не получилось, да говорят, что там плохо. Другой вуз. Ну как же там Машу хвалят! Замуж – нет, не вышла. Да что вы, зачем ей замуж.
Действительно, зачем? С подружками, по швейке еще, Маша ходила на дискотеки, с хором ездила на выступления. Отличное время. Анапские лагеря, подмосковные базы отдыха. Институтские сокурсники для дружбы не подходили – кто-то был уже семейный, а кто и с детьми. Мама не контролировала, везде отпускала. Доверяла и любила. А Маша ничего предосудительного и не делала. Сама шила себе наряды, иногда, очень редко, просила купить ей кофточку или платьице. Родители не отказывали, изыскивали средства. Не лентяйка в мать, мечтательница в отца, Маша вырастала во всегда сияющую, лучезарную и неунывающую девушку. Внешность тоже была располагающей. «Красавица», – сказала однажды ей мать, и Маша ей сразу поверила. Машин природный оптимизм привлекал многих, и мужчин тоже. Даже были отношения в меру серьезные. Но, только встретив Федора, Маша поняла – мое.
А в это время Валентина Егоровна приводила себя в форму. Сначала захотела просто похудеть, элементарно было тяжело носить на себе сто десять килограммов. Тупо ничего не ела, только глотала вату, смоченную в компоте, и пила бесконечные отвары из одной ей ведомых трав. Подруги остерегали, Валя же, получив от земли уверенность, а от Саши долгожданное внимание, с пути не сворачивала, шла, как умела, до конца. И результат начал проявляться. Сперва постепенно, потом стремительно. Саша уезжал в Пятигорск к матери и братьям, почти месяц его не было. Так вернулся – честно не узнал жену. Ноги палочки, попа – сдутый мяч, сиськи тоже уже не подушки, скорее наволочки. Даже вены, всю жизнь вздыбленные на ногах макетом кавказских гор, и те Валя как-то уменьшила, выправила. Правда, и волосы поредели, лицо похудело, сползло, взялись откуда-то многочисленные морщины, на лбу так вполне себе канавки. Но Саша про верхний этаж не стал упоминать. «Здорово!» – сердечно и искренне сказал про впечатление. А Вале вроде бы и не надо уже его похвал. Отсырели чувства. Это она поняла еще в процессе изменения себя.
Чтобы лучше похудеть, стала Валя вооружаться знанием, читать разную научно-оздоровительную литературу. Буквально съедала эти книги, брошюрки, скопированные статьи. Слово! Вот где настоящая сила. Понемногу добавляла к этим книгам другие, мистические, эзотерические, даже духовные. И образовывалось в ней драгоценное знание, которое было столь ново и сокровенно, полезно и основательно. Хотя вопросы оставались. В этом случае Валя записывалась на семинары к умным людям, несущим здоровье, свет и гармонию. Все эти трансформации, медитации, энергии вознесения, балансировки сознания устелили Валин ум плотным ковром прочного плетения, поэтому пылинкам здравого смысла было все сложнее проникать сквозь этот заслон. Читала она много, но остановиться решила на книгах Крайона, который сам себя называл метафизиком, а в Туле его точно бы обозвали американским шаромыжником. А Валя видела в его учении счастье и сама, того гляди, вот-вот бы стала счастливой. Но этому состоянию всегда что-то мешало.
Нет, не близкие. Хотя косвенно. Они не вмешивались. Хочет человек стать счастливым – пожалуйста. Не лезет с проповедями – замечательно. Вся семья при деле. Валя в астрале, Саша в университете, Маша – с Федей. Ах, точно, вот Федька, он помешал.
Ублюдок, сын мерзкой суки, цыганская сволочь, чтоб он на машине перевернулся и кишки у него повылезли из горла. Чтобы тварь его мать сдохла и сгнила. Машенька моя, москвичка, а этот из жопы вылез. Девочка бедная плачет, пока тот доедет в свой подмосковный поселок городского типа, переживает из-за выродка этого, слезки свои хрустальные льет. Было бы из-за кого.
Если тождество предусматривает предельный случай равенства объектов, то отношения Маши и Феди представлялись Валентине Егоровне запредельным, возмутительным примером вопиющего неравенства. Кто он? Милиционер, образование агроинженерное. А Маша моя – журналист, швея второго разряда.
Валентина Егоровна протестовала. Мечтала, чтобы в одночасье этот Федор превратился в крысу, а его дом в тыкву. Ездила к Машиным подругам, просила, угрожала, умоляла повлиять. Ходила даже в дом «этой цыганки» – такой показалась ей Федина мать. Со скандалом, проклятиями, матюгами… И тут пришло озарение! Заколдовали. Опоили мою Машеньку эти люди, чтобы завладеть столичной недвижимостью. Женится этот урод, разведется и квартиру мою выстраданную отсудит. Вот их подлая бухгалтерия. Как же ты, бедная моя девочка, этого не видишь? Спасать!
Валя медлить не стала. Схватила альбом с фотографиями и прыг в сибирский поезд. Поехала к ведунье, про которую многие говорили «сильная». Та смотрела долго и внимательно весь архив. Потом молчала, чертила схемы на бумаге. Валя нервничала, курила без остановки. Не мешает? Курите-курите. И то, что в итоге ведунья сказала, Валю в прямом смысле контузило. Под ней не мир рухнул, а целиком мироздание.
– Вот этот с ней жил, – тыкала ведунья на фото Бублика.
– Конечно, жил, это ж отец ее, – мирно соглашалась Валя.
– Я в другом смысле, – взяла многозначительную паузу служительница темных сил и торжествующе сложила руки на груди.
– В каком? – Валя не понимала.
– Жил половой жизнью, – было уточнение.
У Вали закружилась голова. Ей, как оператору Урусевскому в фильме «Летят журавли», показался в небе хоровод деревьев. Что-то колючее, мерзкое ее подхватило и несло, ей все верилось: сейчас отпустит, вернет на землю. Что это было? Безумие.
Ведунья говорила еще. Много. Даже слишком. Отрабатывала Валину пенсию, очищала Валину карму. Речь шла о «долгой связи», «стяжательстве близкой к дочери женщины», «черных помыслах», «томящейся душе близкого человека, наверное, дочери». Валя попала в полосу турбулентности, и, если бы не вовремя организованная валидольная концовка визита, сложно было бы делать Валин прогноз на будущее.
Так часто бывает. Кордиамин может вернуть сердце из коллапса, валидол успокоит, корвалол притормозит и усыпит, но где то средство, которое навсегда очистит разум. Маше оно бы очень пригодилось для мамы.
Обрушив на мужа и дочь вновь открывшиеся обстоятельства, Валентина Егоровна при всем этом жалела Машу и очень яро ругала себя. Почему не уберегла от пидораса? К ситуации подходило слово «педофил», но Валентина Егоровна его пока не знала. Почему допустила, не почувствовала, не узнала. Он дома с тобой или куда водил? Признайся… я знаю прекрасных специалистов… они помогут тебе забыть этот ужас. И я помогу… Мы вместе справимся… Главное – сбалансироваться… Почему ты меня затыкаешь? Пошли все вон!
Маша с отцом вышли из квартиры. Говорить не хотелось, но Саша Бублик все же подумал вслух: «Существует вероятность, что мама немножко сошла с ума». Маша про себя согласилась: «То, что она говорила, свидетельствует против ее вменяемости». И тут распахнулась дверь. Валентина Егоровна, прежняя и спокойная, вышла к лифту. Повернулась к Саше и тихо сказала: «Так, значит, это ты этого ублюдка нашел, чтобы следы замести. Ты нашу дочь под него подложил. Ты в сговоре с этими цыганами. Ты их свел». Вернулась домой и позвонила в Сашин университет ректору. Там обязательно должны знать правду!
Служебное положение позволяло Маше попасть на консультацию к хорошему врачу. Как журналист, она плохо знала медицинские термины, но, описав все, как ей казалось, точно, спросила: «Это шизофрения? Она излечима?» Доктором была вполне молодая еще женщина, и она чуть заметно покачала головой: «Надо все-таки познакомиться сначала с вашей мамой». С настенного календаря на Машу смотрела кошечка. И на столе у доктора сидели фарфоровые кошечки. А под столом стояли красивые туфли на каблуках, которые доктор надевала очень редко. И Маша понимала, что с доктором Валентина Егоровна разговаривать откажется.
Потом доктор объясняла, что при острой шизофрении человек не успевает потерять связи с внешним миром и болезнь может отступить. Маша воодушевилась. К несчастью, доктор продолжала: хроническое течение болезни не дает таких шансов. Это не болезнь воли, как алкоголизм, а просто болезнь, болезнь души и сознания. Маша спросила: «Почему?» – и доктор вздохнула. Она бы сама хотела знать наверняка. Но попыталась описать теорию. Сознание при шизофрении расщепляется, или, как еще говорят, рассыпается. Если про человека скажут: «Он рассыпается», это будет означать, что его ум уже никогда не станет ясным. Его вообще не будет, этого ума. Сначала не будет ума, потом жизни. Все. Конец.
Но Маша была оптимистом. Она и сейчас оптимист, главный принцип: нет гербовой – бери обычную. Жизнь продолжается.
Валентина Егоровна пашет грядки. Еще очень даже в силе, часто и в уме. Ей очень нравятся лилии, но она не любит их латинского названия «гемерокалис». По-прежнему много читает. Лечится только травами и энергией света. Волосы у нее всегда покрашены под цвет костра. Дураки любят красное.
Ненависть, зависть и злость от нее никуда не ушли. К Маше на свадьбу не поехала, даже на регистрацию. Что там делать? Цыгане и этот голубой. Закрутили девку.
Иногда, неуловимыми мгновениями, ей кажется, что мысль ее движется по ложной парадигме. Но секунды не хватает, чтобы осознать это.
Наконец-то Валя живет счастливо, но никто этого не замечает, и еще никто не молится за ее заблудшую душу.
Привет… пока… до завтра…
Как красиво и просто – белые шторы. Любые, даже такие – из простыни, – любовалась Марина плывущими в окне полотнами и одновременно раздевалась. Пуговицы были сделаны под осколки перламутра, а петли тугие, не желающие впускать в себя эту тонкую и острую, совсем неформатную галантерею. Шелк рубашки скользил между пальцами, и там же кружился солнечный свет, расстилаясь щедрым сегментом от окна. По всему врачебному кабинету, по Марине и врачу, который совсем не смотрел на полуголую Марину, а выглядывал в окно, в больничный сад, в траву и цвет, которые казались доктору значительно интереснее, чем Маринина белая грудь.
– Руки за голову. – Врач отдавал привычные команды, и Марина медленно выгнула шею назад, подняла руки и закрыла глаза.
Откуда только берутся эти болезни? Вернее, нет, откуда берутся подозрения на них? В случае Марины из ряда признаков: из ощущений, плохих снов и явно чего-то не того, что заставляет интуицию открыть глаза или дернуть в колокольчик, такой маленький, как на последний звонок раньше надевали.
– Не могу сказать ничего плохого. На всякий случай сделаем исследование, – предложил врач. У него было вполне хорошее настроение. День начинался бодро и даже радостно, очередь подобралась почти молодая, даже юная и от того более оптимистичная.
– Сделаем, – согласилась Марина и даже не стала опять бороться с пуговицами. Запахнула блузку, заправила в юбку и шагнула в следующий кабинет.
Там тоже был врач-мужчина. Правда, более многословный.
– Полных лет?
– Двадцать девять.
– Замужем?
Марина кивнула.
– Лялька есть? – уточнил врач, и Марина с досадой покачала головой.
– Аборты?
– Нет…
– Не вижу ничего такого… Хотя…
Марина вроде бы уже вздохнула с облегчением, даже улыбнулась, но эта полуулыбка так и застыла на губах нелепой гримасой. Пока врач приближал изображение на мониторе, вглядывался в него, зачем-то для этого нагибаясь и зажмуриваясь, Марина была почти спокойна. Но когда на бланке осмотра врач что-то написал красным маркером, два раза обвел и поставил восклицательный знак, Марина испугалась, и этот страх шумел в голове, он будто затмевал разум, закипал мутью, как подсоленная вода, и превращался в ужас.
Она шла на чужих ногах по коридору, прислонялась незнакомой спиной к стене, ждала очереди. Возле страшного кабинета, за дверью которого противное слово «пункция» обретало реальный смысл, чей-то ребенок монотонно катал машинку по полу: «Би-би ту-ту. Би-би ту-ту. Би-би ту-ту». И Марина в холодном поту, в ужасе и отчаянии хотела, чтобы этот ребенок замолчал, не усугублял кошмар и надвигающуюся катастрофу. Все раздражало и казалось враждебным, даже веселая медсестра, которая, открыв дверь, весело позвала: «Кто желает уколоться? Подходи, не бойсь!»
Марина боялась, но пошла и как сквозь муар смотрела на свой снимок УЗИ в чужих руках, жирную черную точку от фломастера на своей груди, на шприц с длиннющей иглой и на кровь, которая капнула на белый кафель из прикушенной от боли губы. Боль здесь была кругом, а за окном плела кудель из минут, часов и дней обычная жизнь в войлочных тапках, и ей совсем не хотелось ходить в гости к жизни этой, между ними не было до конца понимания, а имелся лишь конфликт, неразрешимый и вечный. В обычной жизни Марину на улице ждал муж, а в этой – анализ, из которого кое-что было неясно, но многое уже определенно, и это «многое» давало все-таки шансы. Venceremos! Победа будет за нами. Надо было просто ждать. Как сказал врач: «Будем наблюдать». Марина – на блюде – ать, ее на-блюдают. Всего какой-то год, и наступит ясность. Марина предпочла бы, чтобы даже потребности в ясности не было, но ужас, растянутый на триста шестьдесят пять дней, уже вовсе и не ужас, просто неудобство. Но Марина решила сразу: «Леше говорить не буду».
Алексеем звали мужа. Хорошее имя. Ласковое. «Вот Алеша, славный малый, я влюблюсь в него, пожалуй». У Марины примерно так и случилось. Он был славный, она складная. Он фотограф, она журналист. Их профессии состояли в самой что ни на есть интимной связи. Марина и Леша с подобными отношениями тоже затягивать не стали. Но сначала поженились. Скорее от полноты счастья, чем от назидательного перста морали. Так уж им хотелось, чтобы они стали красиво неразлучны. Как Лелек и Болек, как Кржемелек и Вахмурка, как Волк и Заяц. И описывать первую пятилетку их семейной жизни – все равно что пересказывать мультипликационный фильм, настолько интересной, полноцветной, правильной и доброй она была. Но потом яркость ослабла, цвет потускнел. Хотя Марина с Лешей вертели свои жизни и карьеры, как замысловатые кубики Рубика, собирая всегда одинаковые цвета, но постепенно их цвета стали глобально не совпадать. Векторы их стремлений получались разнонаправленными, а мысли находились в разлете. Это случилось как-то не сразу, как растянутый приход зимы, но стало очевидным.
Леша сидел в машине уже полтора часа, заждался Марину из больницы, злился:
– Почему так долго?
– Извини. Задержалась. – Марина не хотела скандала.
– Почему нельзя сразу сказать, что будешь долго?! – Леша тоже не желал скандала, но хотел самоутверждения.
– Я говорила, чтобы ты не ждал, ехал.
– Шайзе! – Леша прекрасно ругался на многих европейских языках, но именно это немецкое слово было у него любимым.
Машина только отъехала от обочины и тут же получила удар «жигулями» в правый бок. Для Леши это было уже слишком. Он бил руль ребром ладони, вторя «шайзе», и Марина радовалась, что она – не этот руль и не те «жигули». Может, не вовремя, но ей показалось, что именно сейчас надо сказать то, что давно уже хотелось. Именно сказать, а не спросить.
– Леш, давай ребенка родим…
– Прямо сейчас? Здесь? На асфальте?
– Можно потом.
Алексей замолчал. Посмотрел по сторонам, как будто высматривал, едет ли наконец эта дорожная полиция. Подумал, еще раз ударил руль, убрал волосы со лба и медленно, как ребенку, объяснил Марине:
– Понимаешь, я не готов… Пока не готов… Пока не готов ответить. Я очень хочу детей… Шайзе!
– Как в еврейском анекдоте. Дети были, дети будут, но детей пока нет, – сделала вывод Марина.
– Нельзя осуждать человека за то, что он боится принять решение, требующее большой ответственности.
Марина отвернулась:
– Ты прав. Нельзя. Семь лет совместной жизни – не срок для подобных решений.
Алексей попытался обратить ситуацию в шутку:
– Может, подождать еще годок?
– Знаешь, если к семи килограммам повидла добавить кило говна, получится восемь килограммов говна.
– Во-первых, ты манипулируешь. А во-вторых, не говна, а говноповидла.
– Нет, Леш. Говна.
Марине хотелось плакать. И это были бы не слезы гордеца, которому в чем-то не уступили, а слезы человека, который пошел не той дорогой, где-то свернул не там, когда-то что-то сказал не так, и путь к исходной точке было уже не отыскать. Тропа заросла прочно, и вместе с этой порослью повзрослела и Марина, так некстати обогнав мужа в основных жизненных импульсах.
Великая красота Марининой профессии заключалась в доступных чудесах. Вот ведь как обыватель думает. Приедет журналист, напишет в газету о наших трудностях, и они сразу прекратятся. Дадут нержавую воду, отремонтируют дорогу, увеличат финансирование. Что там еще? Уморят всех соседских кошек числом сорок штук. Но чудеса случались редко. А редакционные летучки служили для них сортировочной базой и бывали куда как чаще.
Главный редактор Сергей Петрович Алексеев по-настоящему уважал две вещи – диалог и сигары. Считалось, что он бросил курить, а сигары – так, баловство. И вот он сидит в своем кабинете, в сизом дыму, под парадными фото и юбилейными номерами родной газеты, засунутыми под специальное антибликовое стекло, смотрит на посетителей, а те в свою очередь – на чучело белки, прибитое к стене. Белку когда-то искусственно расширили, сделали толстою, с подносом, на котором сложной вязью написано: «На орехи», и денежки положили разной ценности.





