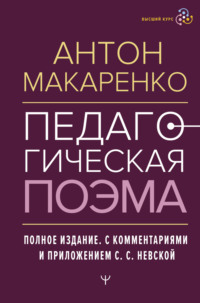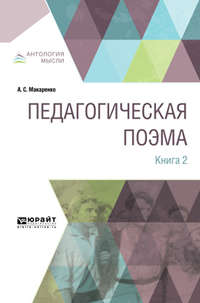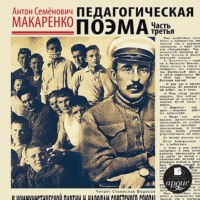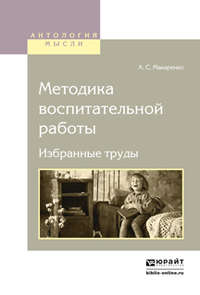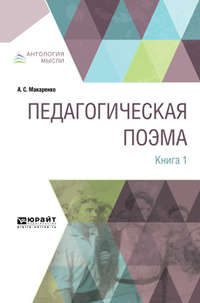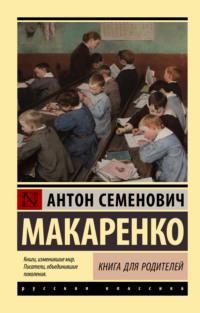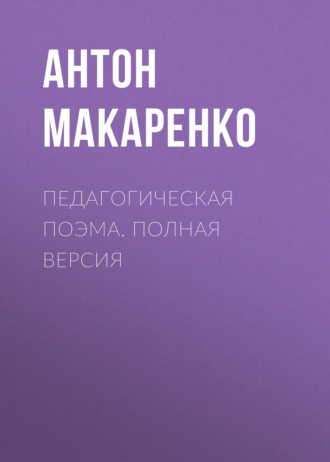 полная версия
полная версияПедагогическая поэма. Полная версия
Артемий важно задирает облезшую голову и изображает графа, осматривающего печку, которую построил Артемий. Ребята не выдерживают и заливаются смехом: очень уж Артемий мало похож на графа.
Утермарковку Артемий начал с торжественными и специальными разговорами, вспомнил по этому поводу все утермарковские печки, и хорошие, сложенные им, и никуда не годные, сложенные другими печниками. При этом он, не стесняясь, выдавал все тайны своего искусства и перечислял все трудности работы утермарковской печки:
– Самое главное здесь – радиусом провести правильно. Другой не может с радиусом работать.
Ребята совершали в спальню девочек целые паломничества и, притихнув, наблюдали, как Артемий «проводит радиусом».
Артемий много тараторил, пока складывал фундамент. Когда же перешел к самой печке, в его движениях появилась некоторая неуверенность, и язык остановился.
Я зашел посмотреть на работу Артемия. Колонисты расступились и заинтересованно на меня поглядывали. Я покачал головой:
– Что же это она такая пузатая?
– Пузатая? – спросил Артемий. – Нет, не пузатая, это она кажет, потому что не закончено, а потом будет как следует.
Задоров прищурил глаз и посмотрел на печку:
– А у графа тоже так «казало»?
Артемий не понял иронии:
– Ну, а как же, это уже всякая печка, пока не кончена. Вот и ты, например…
Через три дня Артемий позвал меня принимать печку. В спальне собралась вся колония. Артемий топтался вокруг печки и задирал голову. Печка стояла посреди комнаты, выпирая во все стороны кривыми боками, и… вдруг рухнула, загремела, завалила комнату прыгающим кирпичом, скрыла нас друг от друга, но не могла скрыть в ту же секунду взорвавшегося хохота, стонов и визга. Многие были ушиблены кирпичами, но никто уже не был в состоянии заметить свою боль. Хохотали и в спальне, и, выбежав из спальни, в коридорах, и на дворе, буквально корчились в судорогах смеха. Я выбрался из разрушения и в соседней комнате наткнулся на Буруна, который держал Артемия за ворот и уже прицеливался кулаком по его засоренной лысине.
Артемия прогнали, но его имя надолго сделалось синонимом ничего не знающего, хвастуна и «портача». Говорили:
– Да что это за человек?
– Артемий, разве не видно!
Шере в глазах колонистов меньше всего был Артемием, и поэтому в колонии его сопровождало всеобщее признание, и работа по сельскому хозяйству пошла у нас споро и удачно. У Шере были еще и дополнительные способности: он умел найти выморочное имущество,[111] обернуться с векселем, вообще кредитнуться, поэтому в колонии стали появляться новенькие корнерезки, сеялки, буккеры, кабаны и даже коровы. Три коровы, подумайте! Где-то близко запахло молоком.
В колонии началось настоящее сельскохозяйственное увлечение. Только ребята, кое-чему научившиеся в мастерских, не рвались в поле. На площадке за кузницей Шере выкопал парники, и столярная готовила для них рамы. Во второй колонии парники готовились в грандиозных размерах.
В самый разгар сельскохозяйственной ажиотации, в начале февраля, в колонию зашел Карабанов. Хлопцы встретили его восторженными объятиями и поцелуями. Он кое-как сбросил их с себя и ввалился ко мне:
– Зашел посмотреть, как вы живете.
Улыбающиеся, обрадованные рожи заглядывали в кабинет: колонисты, воспитатели, прачки.
– О, Семен! Смотри! Здорово!
До вечера Семен бродил по колонии, побывал в «Трепке», вечером пришел ко мне грустный и молчаливый.
– Расскажи же, Семен, как ты живешь?
– Да как живу… У батька.
– А Митягин где?
– Ну его к черту! Я его бросил. Поехал в Москву, кажется.
– А у батька как?
– Да что ж, селяне, как обыкновенно. Батько еще молодец… Брата убили…
– Как это?
– Брат у меня партизан, убили петлюровцы в городе, на улице.
– Что же ты думаешь? У батька будешь?
– Нет… У батька не хочу… Не знаю…
Он дернулся нерешительно и придвинулся ко мне.
– Знаете что, Антон Семенович, – вдруг выстрелил он, – а что, если я останусь в колонии? А?
Семен быстро глянул на меня и опустил голову к самым коленям.
Я сказал ему просто и весело:
– Да в чем дело? Конечно, оставайся. Будем все рады.
Семен сорвался со стула и весь затрепетал от сдерживаемой горячей страсти:
– Не можу, понимаете, не можу! Первые дни так-сяк, а потом – ну, не можу, вот и все. Я хожу, роблю, чи там за обидом, как вспомню, прямо хоть кричи! Я вам так скажу: вот привязался к колонии, и сам не знал, думал – пустяк, а потом – все равно, пойду, хоть посмотрю. А сюды пришел да как побачил, що у вас тут делается, тут же прямо так у вас добре! От ваш Шере…
– Не волнуйся так, чего ты? – сказал я ему. – Ну, и надо было бы сразу прийти. Зачем так мучиться?
– Да я и сам так думал, да как вспомню все это безобразие, как мы над вами куражились, так аж…
Он махнул рукой и замолчал.
– Добре, – сказал я, – брось все.
Семен осторожно поднял голову:
– Только… может быть, вы что-нибудь думаете, может, думаете: кокетую, как вы говорили. Так нет. Ой, если бы вы знали, чему я только научился! Вы мне прямо скажите, верите вы мне?
– Верю, – сказал я серьезно.
– Нет, вы правду скажите: верите?
– Да пошел ты к черту! – сказал я смеясь. – Я думаю, прежнего ж не будет?
– От видите, значит, не совсем верите…
– Напрасно ты, Семен, так волнуешься. Я всякому человеку верю, только одному больше, другому меньше: одному на пятак, другому на гривенник.
– А мне на сколько?
– А тебе на сто рублей.
– А я вот так совсем вам не верю! – «вызверился» Семен.
– Вот тебе и раз!
– Ну, ничего, я вам еще докажу…
Семен ушел в спальню.
С первого же дня он сделался правой рукой Шере. У него была ярко выраженная хлеборобская жилка, он много знал, и многое сидело у него в крови «з дида, з прадида» – степной унаследованный опыт. В то же время он жадно впитывал новую сельскохозяйственную мысль, красоту и стройность агрономической техники.
Семен следил за Шере ревнивым взглядом и старался показать ему, что и он способен не уставать и не останавливаться. Только спокойствию Эдуарда Николаевича он подражать не умел и всегда был взволнован и приподнят, вечно бурлил то негодованием, то восторгом, то телячьей радостью.
Недели через две я позвал Семена и сказал просто:
– Вот доверенность. Получишь в финотделе пятьсот рублей.
Семен открыл рот и глаза, побледнел и посерел, неловко сказал:
– Пятьсот рублей? И что?
– И больше ничего, – ответил я, заглядывая в ящик стола, – привезешь их мне.
– Ехать верхом?
– Верхом, конечно. Вот револьвер на всякий случай.
Я передал Семену тот самый револьвер, который осенью вытащил из-за пояса Митягина, с теми же тремя патронами. Карабанов машинально взял револьвер в руки, дико посмотрел на него, быстрым движением сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. Через десять минут я услышал треск подков по мостовой: мимо моего окна карьером пролетел всадник.
Перед вечером Семен вошел в кабинет, подпоясанный, в коротком полушубке кузнеца, стройный и тонкий, но сумрачный. Он молча выложил на стол пачку кредиток и револьвер.
Я взял пачку в руки и спросил самым безразличным и невыразительным голосом, на какой только был способен:
– Ты считал?
– Считал.
Я небрежно бросил пачку в ящик.
– Спасибо, что потрудился. Иди обедать.
Карабанов для чего-то передвинул слева направо пояс на полушубке, метнулся по комнате, но сказал тихо:
– Добре.
И вышел.
Прошло две недели. Семен, встречаясь со мной, здоровался несколько угрюмо, как будто меня стеснялся.
Так же угрюмо выслушал мое новое приказание:
– Поезжай, получи две тысячи рублей.
Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая в карман браунинг, потом сказал, подчеркивая каждое слово:
– Две тысячи? А если я не привезу денег?
Я сорвался с места и заорал на него:
– Пожалуйста, без идиотских разговоров! Тебе дают поручение, ступай и сделай. Нечего «психологию» разыгрывать!
Карабанов дернул плечом и прошептал неопределенно:
– Ну, что ж…
Привезя деньги, он пристал ко мне:
– Посчитайте.
– Зачем?
– Посчитайте, я вас прошу!
– Да ведь ты считал?
– Посчитайте, я вам кажу.
– Отстань!
Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило, потом рванул воротник и зашатался.
– Вы надо мною издеваетесь! Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть! Чуете? Не может быть! Вы нарочно рискуете, я знаю, нарочно.
Он задохнулся и сел на стул.
– Мне приходится дорого платить за твою услугу.
– Чем платить? – рванулся Семен.
– А вот наблюдать твою истерику.
Семен схватился за подоконник и прорычал:
– Антон Семенович!
– Ну, чего ты? – уже немного испугался я.
– Если бы вы знали! Если бы вы только знали! Я ото дорогою скакав и думаю: хоть бы бог был на свете. Хоть бы бог послал кого-нибудь, чтоб ото лесом кто-нибудь набросился на меня… Пусть бы десяток, чи там сколько… я не знаю. Я стрелял бы, зубами кусав бы, рвал, как собака, аж пока убили бы… И знаете, чуть не плачу. И знаю ж: вы отут сидите и думаете: чи привезет, чи не привезет? Вы ж рисковали, правда?
– Ты чудак, Семен! С деньгами всегда риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думаю так: если ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасно ездишь верхом, ты от всяких бандитов удерешь, а меня они легко поймают.
Семен радостно прищурил один глаз:
– Ой, и хитрый же вы, Антон Семенович!
– Да чего мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получать деньги, и дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю: ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве ты этого не видел?
– Нет, я думал, что вы этого не знали, – сказал Семен, вышел из кабинета и заорал на всю колонию:
Вылеталы орлыЗ-за крутой горы,Вылеталы, гуркоталы,Роскоши шукалы.[27] Командирская педагогика
Зима двадцать третьего года принесла нам много важных организационных находок, надолго вперед определивших формы нашего коллектива. Важнейшая из них была – отряды и командиры.
И до сих пор в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского есть отряды и командиры, имеются они и в других колониях, разбросанных по Украине.
Разумеется, очень мало общего можно найти между отрядами горьковцев эпохи 1927–1928 годов или отрядами коммунаров-дзержинцев и первыми отрядами Задорова и Буруна. Но нечто основное было уже и зимой двадцать третьего года. Принципиальное значение системы наших отрядов стало заметно гораздо позднее, когда наши отряды потрясали педагогический мир широким маршем наступления и когда они сделались мишенью для остроумия некоторой части педагогических писак. Тогда всю нашу работу иначе не называли, как «командирской» педагогикой, полагая, что в этом сочетании слов заключается роковой приговор.
В 1923 году никто не предполагал, что в нашем лесу создается важный институт, вокруг которого будет разыгрываться столько страстей.
Дело началось с пустяка.
Полагаясь, как всегда, на нашу изворотливость, нам в этом году не дали дров. По-прежнему мы пользовались сухостоем в лесу и продуктами лесной расчистки. Летние заготовки этого малоценного топлива к ноябрю были сожжены, и нас нагнал снова топливный кризис. По правде сказать, нам всем страшно надоела эта возня с сухостоем. Рубить его было не трудно, но для того чтобы собрать сотню пудов этих, с позволения сказать, дров, нужно было обыскать несколько десятин леса, пробираться между густыми зарослями и с большой и напрасной тратой сил свозить всю собранную мелочь в колонию. На этой работе очень рвалось платье, которого и так не было, а зимою топливные операции сопровождались отмороженными ногами и бешеной склокой в конюшне: Антон и слышать не хотел о заготовках топлива.
– Старцюйте[112] сами, а коней нечего гонять старцювать. Дрова они будут собирать! Какие это дрова?
– Братченко, да ведь топить нужно? – задавал убийственный вопрос Калина Иванович.
Антон отмахивался:
– По мне хоть не топите, в конюшне все равно не топите, нам и так хорошо.
В таком затруднительном положении нам все-таки удалось на общем собрании убедить Шере на время сократить работы по вывозке навоза и мобилизовать самых сильных и лучше других обутых колонистов на лесные работы. Составилась группа человек в двадцать, в которую вошел весь наш актив: Бурун, Белухин, Вершнев, Волохов, Осадчий, Чобот и другие. Они с утра набивали карманы хлебом и в течение целого дня возились в лесу. К вечеру наша мощеная дорожка была украшена кучами хворосту, и за ними выезжал на «рижнатых» парных санях Антон, надевая на свою физиономию презрительную маску.
Ребята возвращались голодные и оживленные. Очень часто они сопровождали свой путь домой своеобразной игрой, в которой присутствовали некоторые элементы их бандитских воспоминаний. Пока Антон и двое ребят нагружали сани хворостом, остальные гонялись друг за другом по лесу; увенчивалось все это борьбой и пленением бандитов. Пойманных «лесовиков» приводил в колонию конвой, вооруженный топорами и пилами. Их шутя вталкивали в мой кабинет, и Осадчий или Корыто, который когда-то служил у Махно и потерял даже палец на руке, шумно требовали от меня:
– Голову сняты або расстриляты! Ходят по лесу с оружием, мабуть, их там богато.
Начинался допрос. Волохов насупливал брови и приставал к Белухину:
– Кажи, пулеметов сколько?
Белухин заливался смехом и спрашивал:
– Это что ж такое «пулемет»? Его едят?
– Кого – пулемет? Ах ты, бандитская рожа!..
– Ах, не едят? В таком положении меня пулемет мало интересует.
К Федоренко, человеку страшно селянскому, обращались вдруг:
– Признавайся, у Махна був?
Федоренко довольно быстро соображал, как нужно ответить, чтобы не нарушить игру:
– Був.
– А что там робыв?
Пока Федоренко соображает, какой дать ответ, из-за его плеча кто-нибудь отвечает его голосом, сонным и тупым:
– Коров пас.
Федоренко оглядывается, но на него смотрят невинные физиономии. Раздается общий хохот. Смущенный Федоренко начинает терять игровую установку, приобретенную с таким трудом, а в это время на него летит новый вопрос:
– Хиба в тачанках коровы?
Игровая установка окончательно потеряна, и Федоренко разрешается классическим:
– Га?
Корыто смотрит на него со страшным негодованием, потом поворачивается ко мне и произносит напряженным шепотом:
– Повисыть! Це страшный чоловик: подывитеся на его очи.
Я отвечаю в тон:
– Да, он не заслуживает снисхождения. Отведите его в столовую и дайте ему две порции.
– Страшная кара! – трагически говорит Корыто.
Белухин начинает скороговоркой:
– Собственно говоря, я тоже ужасный бандит… И тоже коров пас у матушки Маруськи…
Федоренко только теперь улыбается и закрывает удивленный рот. Ребята начинают делиться впечатлениями работы. Бурун рассказывает:
– Наш отряд сегодня представил двенадцать возов, не меньше. Говорили вам, что к Рождеству будет тысяча пудов, и будет!
Слово «отряд» было термином революционного времени, того времени, когда революционные волны еще не успели выстроиться в стройные колонны полков и дивизий. Партизанская война, в особенности длительная у нас на Украине, велась исключительно отрядами. Отряд мог вмещать в себе и несколько тысяч человек, и меньше сотни: и тому и другому отряду одинаково были назначены и боевые подвиги, и спасительные лесные трущобы.
Наши коммунары больше кого-нибудь другого имели вкус к военно-партизанской романтике революционной борьбы. Даже и те, которые игрою случая были занесены во враждебный классовый стан, прежде всего находили в нем эту самую романтику. Сущность борьбы, классовые противоречия для многих из них были и непонятны и неизвестны – этим и объяснялось, что советская власть с них спрашивала немного и присылала в колонию.
Отряд в нашем лесу, пусть только снабженный топором и пилой, возрождал привычный и родной образ другого отряда, о котором были если не воспоминания, то многочисленные рассказы и легенды.
Я не хотел препятствовать этой полусознательной игре революционных инстинктов наших колонистов. Педагогические писаки, так осудившие и наши отряды, и нашу военную игру, просто не способны были понять, в чем дело. Отряды для них не были приятными воспоминаниями: они не церемонились ни с их квартирками, ни с их психологией и по тем и по другим стреляли из трехдюймовок, не жалея ни их «науки», ни наморщенных лбов.
Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам колония начала с отряда.
Бурун в дровяном отряде всегда играл первую скрипку, этой чести у него никто не оспаривал. Его в порядке той же игры стали называть атаманом. Я сказал:
– Атаманом называть не годится. Атаманы бывали только у бандитов.
Ребята возражали:
– Чего у бандитов? И у партизан бывали атаманы. У красных партизан многие бывали.
– В Красной армии не говорят: атаман.
– В Красной армии – командир. Так нам далеко до Красной армии.
– Ничего не далеко, а командир лучше.
Рубку дров кончили: к первому января у нас было больше тысячи пудов. Но отряд Буруна мы не стали распускать, и он целиком перешел на постройку парников во второй колонии. Отряд с утра уходил на работу, обедал не дома и возвращался только к вечеру.
Как-то обратился ко мне Задоров:
– Что же это у нас получается: есть отряд Буруна, а остальные хлопцы как же?
Думали недолго. В то время у нас уже был ежедневный приказ; отдали в приказе, что в колонии организуется второй отряд под командой Задорова. Второй отряд весь работал в мастерских, и в него вернулись от Буруна такие квалифицированные мастера, как Белухин и Вершнев.
Дальнейшее развертывание отрядов произошло очень быстро. Во второй колонии были организованы третий и четвертый отряды с отдельными командирами. Девочки составили пятый отряд под командой Насти Ночевной.
Система отрядов окончательно выработалась к весне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею распределения колонистов по мастерским. Я помню, что сапожники всегда носили номер первый, кузнецы – шестой, конюхи – второй, свинари – десятый. Сначала у нас не было никакой конституции. Командиры назначались мною, но к весне все чаще и чаще я стал собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и более красивое название: «Совет командиров». Я быстро привык ничего важного не предпринимать без совета командиров; постепенно и назначение командиров перешло к совету, который таким образом стал пополняться путем кооптации. Настоящая выборность командиров, с отчетом, была достигнута только в Куряже, но я эту выборность никогда не считал и теперь не считаю достижением. В совете командиров выбор нового командира всегда сопровождался очень пристальным обсуждением. Благодаря способу кооптации мы имели всегда прямо великолепных командиров, и в то же время мы имели совет, который никогда как целое не прекращал своей деятельности и не выходил в отставку.
Очень важным правилом, сохранившимся до сегодняшнего дня, было полное запрещение каких бы то ни было привилегий для командира: он никогда не получал ничего дополнительно и никогда не освобождался от работы.
К весне двадцать третьего года мы подошли к очень важному усложнению системы отрядов. Это усложнение, собственно говоря, было самым важным изобретением нашего коллектива за все тринадцать лет нашей истории. Только оно позволило нашим отрядам слиться в настоящий, крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организационная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение товарища товарищу, но в котором не образовалось аристократии – командной касты.
Это изобретение было – сводный отряд.
Противники нашей системы, так нападающие на командирскую педагогику, никогда не видели нашего живого командира в работе. Но это еще не так важно. Гораздо важнее то, что они никогда даже не слышали о сводном отряде, то есть не имели никакого понятия о самом главном и решающем коррективе в системе.
Сводный отряд был вызван к жизни тем обстоятельством, что главная наша работа была тогда сельскохозяйственная. У нас было до семидесяти десятин, и летом Шере требовал на работу всех. В то же время каждый колонист был приписан к той или иной мастерской, и ни один не хотел порывать с нею: на сельское хозяйство все смотрели как на средство существования и улучшения нашей жизни, а мастерская – это квалификация. Зимой, когда сельскохозяйственные работы сводились до минимума, все мастерские были наполнены, но уже с января Шере начинал требовать колонистов на парники и навоз и потом с каждым днем увеличивал и увеличивал требования.
Сельскохозяйственная работа сопровождалась постоянной переменой места и характера работы, а следовательно, приводила к разнообразному сечению коллектива по рабочим заданиям. Единоначалие нашего командира в работе и его концентрированная ответственность с самого начала показались нам очень важным институтом, да и Шере настаивал, чтобы один из колонистов отвечал за дисциплину, за инструмент, за выработку и за качество. Сейчас против этого требования не станет возражать ни один здравомыслящий человек, да и тогда возражали, кажется, только педагоги.
Идя навстречу совершенно понятной организационной нужде, мы пришли к сводному отряду.
Сводный отряд – это временный отряд, составляющийся не больше как на неделю, получающий короткое определенное задание: выполоть картофель на таком-то поле, вспахать такой-то участок, очистить семенной материал, вывезти навоз, произвести посев и так далее.
На разную работу требовалось и разное число колонистов: в некоторые сводные отряды нужно было послать двух человек, в другие – пять, восемь, двадцать. Работа сводных отрядов отличалась также и по времени. Зимой, пока в нашей школе занимались, ребята работали до обеда или после обеда – в две смены. После закрытия школы вводился шестичасовой рабочий день для всех в одно время, но необходимость полностью использовать живой и мертвый инвентарь приводила к тому, что некоторые ребята работали с шести утра до полудня, а другие – с полудня до шести вечера. Иногда же работа наваливалась на нас в таком количестве, что приходилось увеличивать рабочий день.
Все это разнообразие типа работы и ее длительности определило и большое разнообразие сводных отрядов. У нас появилась сетка сводных, немного напоминающая расписание поездов.
В колонии все хорошо знали, что третий «О» сводный работает от восьми утра до четырех дня, с перерывом на обед, и при этом обязательно на огороде, третий «С» – в саду, третий «Р» – на ремонте, третий «П» – в парниках; первый сводный работает от шести утра до двенадцати дня, а второй сводный – от двенадцати до шести. Номенклатура сводных скоро дошла до тринадцати.
Сводный отряд был всегда отрядом только рабочим. Как только заканчивалась его работа и ребята возвращались в колонию, сводного отряда больше не существовало.
Каждый колонист знал свой постоянный отряд, имеющий своего постоянного командира, определенное место в системе мастерских, место в спальне и место в столовой. Постоянный отряд – это первичный коллектив колонистов, и командир его – обязательно член совета командиров. Но с весны, чем ближе к лету, тем чаще и чаще колонист то и дело попадал на рабочую неделю в сводный отряд того или другого назначения. Бывало, что в сводном отряде всего два колониста; все равно один из них назначался командиром сводного отряда – комсводотряда. Комсводотряда распоряжался на работе и отвечал за нее. Но как только оканчивался рабочий день, сводный отряд рассыпался.
Каждый сводный отряд составлялся на неделю, следовательно, и отдельный колонист на вторую неделю обычно получал участие в новом сводном, на новой работе, под командой нового комсводотряда. Командир сводного назначался советом командиров тоже на неделю, а после этого переходил в новый сводный обыкновенно уже не командиром, а рядовым членом.
Совет командиров всегда старался проводить через нагрузку комсводотряда всех колонистов, кроме самых неудачных. Это было справедливо, потому что командование сводным отрядом связано было с большой ответственностью и заботами. Благодаря такой системе большинство колонистов участвовали не только в рабочей функции, но и в функции организаторской. Это было очень важно и было как раз то, что нужно коммунистическому воспитанию. Благодаря именно этому наша колония отличалась к 1926 году бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой задачи, и для выполнения отдельных деталей этой задачи всегда находились с избытком кадры способных и инициативных организаторов, распорядителей, людей, на которых можно было положиться.
Значение командира постоянного отряда становилось чрезвычайно умеренным. Постоянные командиры почти никогда не назначали себя командирами сводных, полагая, что они и так имеют нагрузку. Командир постоянного отряда отправлялся на работу простым рядовым участником сводного отряда и во время работы подчинялся временному комсводотряда, часто члену своего же постоянного отряда. Это создавало очень сложную цепь зависимостей в колонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать над коллективом отдельный колонист.