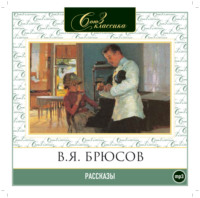Полная версия
Моцарт (сборник)
– Не все было так прекрасно в старину, – воскликнул Эций, не желавший уступать. – Или ты забыл поборы Верра в Сицилии? продажу голосов в трибутных комициях? моря, в которых кишели пираты? дороги, полные разбойниками? Забыл, что там, где прежде были пустыни, теперь стоят цветущие города? что Галлия, которая после Цесаря славилась только окороками и пивом, теперь прославлена своими реторами? что Испания и Африка полны библиотеками? что жизнь стала утонченнее, что образованность распространилась по всей земле, что весь народ стал просвещеннее? И, клянусь Кастором, такой философ нашего времени, как Ямблих, стоит болтуна Цицерона, такой историк, как Аммиан Марцеллин, не ниже Тацита, такого математика, как Папп Александрийский, не имела древность ни Греции, ни Рима, и за одну «Моселлу» нашего Авсония я отдам всего Лукана с Силием Италиком в придачу!
Это возражение Эций произнес с такой страстностью, конечно, намеренной, что невольно привлек к себе сочувствие слушающих, и Симмах, сознавая, что победа не на его стороне, вместо возражения обратился к язвительной насмешке.
– Послушать тебя, – сказал он, – богиня Астрея вернулась на землю, вновь наступил золотой век. Может быть, ты одобряешь и то, что Римляне отказались от религии своих предков и строят храмы новому божеству.
– Что ж в этом дурного! – уже запальчиво воскликнул Эций. – Разве не предрекали древние поэты, что царство Юпитера должно кончиться, как имело свой конец царство его отца Сатурна, и разве Эсхил не сказал нам, что придет некто, который Юпитера
с неправогоНизвергнет трона в неизвестность!Почему мы знаем, что не кончилось царство Юпитера? Симмах хотел опять что-то возразить, но хозяин дома, Коликарий, быстро вмешался и сказал:
– Милые мои гости! я не хочу, чтобы в моем доме подымали спор о религии и подвергали обсуждению ту веру, которой следует божественный император. Мы все благодарны за любопытные мысли, высказанные нашим молодым другом, Флавием Эцием, и еще более за то, что наш знаменитый гость, Квинт Аврелий, захотел поделиться с нами своим красноречием и мудростью. Я же вам предлагаю выпить за вечный Рим и за вечную славу народа Римского. Мальчики, наливайте!
В шуме кубков все слова потонули, и хотя я видел, что спор еще продолжался, но до меня долетали только отдельные слова, «редкие пловцы, появлявшиеся в обширной пучине». В то же время на сцене показались девушки с цимбалиями и крепитакулами и начали исполнять какую-то шумную песню.
Пир продолжался до позднего вечера и закончился настоящей овацией в честь Симмаха, которого увенчали лавровым венком и в честь которого особые певицы пропели нарочно для того написанную оду.
IV
Когда я на следующий день, после пира, утром вышел на улицу, чтобы освежить голову, внезапно воспоминание о данной мною клятве встало передо мной, неотступное, и, сколько я ни пытался отогнать его, как летом отгоняют назойливую муху, оно отовсюду направляло на меня свой натянутый лук. Едва ли не в первый раз я понял весь ужас того положения, которое я согласился принять, и потому ли, что разлука с Гесперией несколько охладила мое юношеское сердце, или потому, что все же для человека нет ничего страшнее, чем темная смерть, мною овладел самый постыдный страх. Глядя на мраморные колонны и величественные стены медиоланских домов, я с тоской спрашивал себя, неужели в этом самом городе мне суждено изведать ужасные минуты убийства, а потом мучения чудовищных пыток и жестокую смерть.
Однако ни одной минуты я не помышлял о том, чтобы отказаться от исполнения своего обещания, скрепленного страшной клятвой. Без колебания я повторял себе, что теперь отступать уже поздно, потому что отступнику были бы навсегда закрыты пути к Гесперии, а по-прежнему я в жизни не видел иного счастия, как быть близ нее, и такое решение огненными буквами было вписано в моей душе. Но если прежде я был готов на все, чтобы только выполнить волю Гесперии, был готов открыто, где-нибудь во дворце или на площади, перед тысячами зрителей, броситься на Грациана и, исполнив свое дело, отдать себя в руки судей или палачей, – то теперь я начал искать, нет ли возможности совершить то же самое тайно, так, чтобы уберечь свою жизнь, возвратиться в Город и там, может быть, дождаться награды за свою верность.
Размышляя об этом, я бродил по улицам Медиолана, но никакого решения трудной задачи мне не представлялось. Устав от раздумий, бесплодных, как поиски первого начала всего сущего, я пытался изменить направление своих мыслей. Мне уже говорили о том, какую толпу слушателей собирает Амбросий, проповедуя в новом, им выстроенном христианском храме. К этому храму я и направился, желая также послушать знаменитого оратора, тем более что был тот седьмой день недели, который особенно христианами чтится. «Этим я исполню совет тетки, – говорил я себе, шутя, – посмотрим, обратит ли меня красноречие Амбросия к вере во Христа».
Храм действительно был наполнен посетителями, и притом, в нем было множество людей, которых одежда и осанка обличали их высокое положение: женщины в богатых столах, с пальцами, совершенно закрытыми драгоценными кольцами, молодые щеголи с завитыми волосами и раскрашенными лицами, пожилые сановники в расшитых золотом тогах, протекторы, доместики. Соответственно этому перед храмом стояла целая толпа рабов, белых и черных, и длинный ряд носилок. Отряд воинов охранял порядок, и мне не без большого затруднения удалось проникнуть в храм.
Уже давно я не бывал в христианских храмах, и меня поразило пышное, хотя и безвкусное убранство, представившееся моим глазам. Стены были выложены цветным мрамором, в разных местах были вставлены мозаичные картины, везде виднелись мраморные изваяния. В храме совершалось служение, но присутствующие так громко переговаривались между собой, шутили и смеялись, что мне, который был принужден стоять у самых дверей, ничего не было слышно. Только когда настало время проповеди, все стихло, и все приготовились слушать.
На кафедру взошел не старый еще человек, с прекрасными Римскими чертами лица, с властительным взглядом, немного начинавший лысеть, отчего его лоб казался больше, и с красивой, густой, тоже немного седой бородой. Едва он заговорил, в храме наступила такая тишина, какая бывает в театрах, когда актер приступает к самому важному месту трагедии, и голос проповедника, суровый и увлекающий, сразу наполнил все пространство. Вот приблизительно что в тот день говорил Амбросий:
«Вы слышали, что сказал Спаситель наш: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“. Но кто суть друзья наши и как мы должны любить их? Должны ли мы, исполняя заповедь любви, нарушать другую заповедь, высшую: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим“? Велик подвиг любви, но позволено ли во имя ее совершать поступок нечестный? Философы спрашивают: можно ли ради любви к другу предать родину? должно ли стать предателем, чтобы исполнить завет любви? Ответим им: „Нет, выше заповеди любви к друзьям поставлена другая – любви к Богу. Если любовь твоя побуждает тебя пойти и совершить убийство, вспомни, что раньше сказано с высот Синая: “Не убий!” Служите правде, которая написана в сердцах ваших, и не изменяйте ей даже ради любви. Апостол пишет галатам, чтобы они носили бремена друг друга, во имя любви. Но помогайте друзьям вашим добрым советом, а не злом. Если во имя любви к другу совершите вы поступок дурной, вы только двойное зло причините, – себе и другу своему. И помните, что любовь не своекорыстна. Кто ждет за свою любовь награды, тот любви не имеет…“
Против своего ожидания, я не без любопытства вслушивался в развитие мысли проповедника, который словно намеренно для меня избрал тему своей речи, когда внезапно кто-то тихим голосом около меня назвал мое имя. Я обернулся и увидел, что какая-то женщина, быстро удаляясь, сделала мне знак следовать за ней. Изумленный, я вышел из храма и тут узнал Рею.
– Pea! – воскликнул я, пораженный. – Каким образом ты здесь? Ведь не на крыльях же Персея и не на колеснице Триптолема ты перенеслась из Рима в Медиолан! Или ты волшебница?
– Молчи, – возразила Pea, – и иди за мной.
Спорить в густой толпе, теснившейся у входа в храм, было неуместно; я последовал за Реей и, едва мы оказались в месте более уединенном, заговорил опять:
– Чего ты от меня хочешь? Зачем ты меня преследуешь? Я не хочу быть с тобой! Оставь меня!
– Юний, – произнесла Pea строго, – вчера я весь день ждала, но ты не вышел из дому. Сегодня я нашла тебя, и ты должен идти со мной. Пойдем.
– Я с тобой не пойду! – воскликнул я гневно.
Pea покачала головой и, опять сделав мне знак следовать, пошла вперед. Я колебался, что мне должно делать. Но здесь снова мысль о пурпуровом колобии, хранившемся в моем ларе, представилась мне. «Хорошо, – сказал я себе, – в последний раз я исполню ее желание, чтобы, наконец, навсегда разорвать гибельные узы, связывающие меня с этой странной девушкой».
Я последовал за Реей.
Мы шли по направлению к окраине города, к тем воротам, откуда был выход к реке. Там стояли маленькие, старые домишки, нисколько не напоминавшие нового Медиолана, потемневшие от лет, с деревянными надстройками. Оглянувшись и убедившись, что я иду за ней. Pea вошла в одну из дверей, зиявших, как черные пасти.
Войдя следом, я увидел мастерскую каменщика. В полутемной, грязной комнате, среди разбросанных каменных глыб и осколков мрамора работало несколько человек, одетых в одни туники. Удары долота и молотков отдавались от стен, и нестерпимый гул сразу так оглушил меня, что я невольно попятился. Преодолев это чувство, я прошел мимо обтесываемой плиты для гробницы, с изображением Доброго Пастыря, и вошел в другую комнату, вся обстановка которой состояла из деревянного ложа и стола.
Затворив плотно дверь, Pea мне сказала:
– Юний! великий час приблизился. Он здесь, я это узнала. Мы должны исполнить решенное Судьбой и ему возвестить его назначение.
Оставшись стоять у самой двери, сложив руки на груди, глядя прямо в глаза девушки, я постарался произнести как мог тверже и решительнее.
– Я твоих бредней слушать не хочу. Я никакого дела с тобой совершать не намерен. У меня есть свои дела, и важные, и у меня есть своя жизнь, с тобой не связанная. Клянусь бессмертными богами, которым я верен, я твоим уловкам больше не поддамся. Завтра в эту самую комнату я принесу ту проклятую вещь, которую ты насильно вложила в мои руки, и больше я не буду отвечать на твой голос. Больше я тебя не знаю, проклинаю случай, который тебя со мною свел, а если ты будешь меня преследовать, обличу в префектуре все твои преступные козни.
До сих пор, при всех моих встречах с Реей, она меня побеждала какой-то непонятной властью, в которой я подозревал даже силы магии. Поэтому, произнося свои слова, я тайно призвал на помощь богиню Венеру, решившись не поддаваться влияниям Гекаты и чарований. Но внезапно лицо Реи, на которое прямо мои глаза были устремлены, покрылось бледностью мраморных статуй, ее руки беспомощно повисли, как у мертвой, она минуту на меня смотрела с выражением такого ужаса, какой могла бы внушить разве только голова Медузы, – и потом девушка всею тяжестью своего тела упала на пол.
Может быть, мне, не обращая на то внимания, тотчас следовало бежать из этого дома, предоставив Рею ее судьбе, но, видя ее распростертою, как человека, пораженного молнией, я не мог преодолеть невольного порыва участия. Я бросился к Рее, стал около нее на колени, поднял ее голову, попытался вернуть девушку к жизни. Но долгое время ее лицо оставалось мертвенным и бледным, веки смеженными, полураскрытые и тоже побледневшие губы неподвижными. Только когда я уже готов был звать кого-нибудь к себе на помощь, Pea вдруг очнулась, судорожно схватила меня руками и слабым голосом проговорила:
– Юний, тобой овладел злой дух.
Стараясь быть как можно ласковее, все поддерживая лежащую Рею, как раненую амазонку, я ей ответил:
– Милая Pea! Мною демон не овладевал. Я просто тебе говорю, что ты во мне ошиблась. Я не хочу служить ни Христу, ни Антихристу, потому что я не христианин и почитаю учение христиан гибельным заблуждением или опасным обманом. Я пойду своей дорогой, а ты иди своей и вместо меня выбери себе помощником другого. Я же никакого вреда тебе не сделаю и твоих тайн никому не открою.
Тогда Pea, которую я всегда почитал сильной и как бы подобной мужчине, начала рыдать, притом так неудержно, словно скорбь мучила все ее тело от горла до пальцев ног. Она то лила слезы, как Ниоба, то, так же, как Ниоба, каменела в моих объятиях, то дрожала так сильно, словно была в тягостной лихорадке. Я не знал, как ее утешить, и бессвязно повторял:
– Приди в себя… Я тебе и раньше все это говорил… Подумай… Не могу же я для твоего удовольствия уверовать в Христа… И почему тебе нужен я?
– Ты! ты! – повторяла Pea сквозь рыдания. – Ты – один. Ты назначен Богом. Ты избран. Он мне послал тебя. Ты должен. Ты не властен отречься.
Так мы лежали оба на грязном полу, сжимая друг друга в объятиях, и я, чтобы чем-нибудь успокоить бедную девушку, осторожно, как ребенка, поцеловал ее в лоб. В ту же минуту она с яростью впилась губами в мои губы и стала поцелуями покрывать мое лицо, прижимая ко мне свою грудь. Я сопротивлялся этим ласкам, нежданным и страшившим меня, уклонял лицо, отстранял тело девушки, но она меня все теснее привлекала к себе, примешивая к словам отчаяния слова нежности и страсти.
– Юний! мой Юний! Ты мне послан Богом! Он меня сделал твоей невестой! Мы Богом обручены, Юний. Обручены на славу и позор. Мы должны вместе погибнуть, Юний. Мы должны быть вместе, Юний, мой Юний!
Понемногу эта исступленность несдержанных ласк, эта близость к женщине, дыхание и теплоту которой я чувствовал на своем теле, эта странность минуты, более похожей на безумие, чем на событие жизни, самая уединенность места, которое казалось лежащим где-то за пределами земного круга, победили меня. Я вновь уступил любовным настояниям Реи, как в ту ночь, когда, после чудовищного служения в неведомом мне зале с коринфскими колоннами, она во мраке приблизилась ко мне. Под стук долота и молотков, дробивших камень и высекавших образ Доброго Пастыря, восстановился мой странный союз с загадочной девушкой.
Когда потом Pea сказала мне: «Ты придешь сюда через день!»– я уже не нашел слов, чтобы ей возразить. Я наклонил голову в знак согласия, хотя в душе у меня и был мрак, подобный тому, который царствует на безмолвных берегах Ахеронта.
Выйдя на улицу, снова увидя залитые зимним солнцем мраморные громады медиоланских строений, услышав издали гул веселой толпы, выходящей из христианского храма после проповеди Амбросия, я готов был думать, что все свершившееся только темный сон, примчавшийся ко мне из Тартара через дверь из слоновой кости.
V
Вечером я писал письма под диктовку Симмаха, и потом он сказал мне:
– Завтра ты пойдешь со мною к Амбросию: я хочу говорить с ним.
На другой день мы вышли из дому рано, причем Симмах, чтобы не обращать на себя внимания, оделся как можно проще. Я нес за ним различные выписки, которые, по его словам, могли ему понадобиться.
Амбросий жил неподалеку от христианского храма, в маленьком белом домике. Мне говорили, что, избранный епископом, Амбросий роздал все свое имущество бедным, оставив себе только небольшое число рабов, доходы со своих имений, – причем отдавал эти доходы почти полностью своей сестре Марцелине, – и свою библиотеку. Поэтому Амбросий, в юности привыкший к жизни роскошной, теперь жил весьма скромно.
У дверей дома нас встретил раб, и Симмах его спросил, можно ли видеть Амбросия.
– Входите свободно, – ответил раб, – каждый желающий во всякое время может говорить с епископом, и он даже запретил предупреждать его о посетителях.
Мы прошли несколько пустых комнат и увидели знаменитого проповедника склонившимся над столом, который был завален грудами разных книг. Книги останавливали взгляд и во всех других местах комнаты, в особых книгохранилищах, на скамьях и прямо на полу. Так как читавший не расслышал наших шагов, Симмах первый к нему обратился с вопросом:
– Узнает ли меня Аврелий и позволит ли говорить с ним?
Амбросий поднял глаза, посмотрел на нас и ответил:
– Приветствую тебя, Симмах. Я был уверен, что ты придешь. Я готов говорить с тобой.
Он отодвинул книгу, которую читал, и указал Симмаху на кресло, бывшее подле. Я остался почтительно стоять у двери, откуда мне был слышен весь разговор.
– Ты, однако, ошибся, именуя меня Аврелием, – продолжал епископ, – крещение рождает человека к новой жизни, и у меня нет другого имени, кроме Амбросия.
– Нет, – возразил Симмах, – ты для меня представитель славного рода Аврелиев, мой родственник, сын префекта, сам носивший пояс с золотой пряжкой. Я к тебе пришел, как к Римлянину, которому близки судьбы империи, как к человеку, в жилах которого кровь победителей мира и который не захочет унизить то величие, до которого его предки подняли священный и вечный Город. Ты знаешь, зачем я прибыл в Медиолан, ты угадываешь, о чем я хочу говорить с тобой, и ты понимаешь, почему я пришел к тебе раньше, чем добиваться приема у императора.
Очень спокойно выслушав эту речь, Амбросий ответил голосом сдержанным, но решительным:
– Симмах! Я, конечно, знаю, зачем ты прибыл в Медиолан. Но поездка твоя и твоих товарищей – бесплодна. Наш благочестивейший император внимательно обдумал свой эдикт, и его решение бесповоротно. В Сенате христианского императора не может стоять статуй ложным богам.
– Не говори уклончиво!– со страстью прервал Симмах. – Нам не перед кем притворствовать. За этого моего писца я ручаюсь: он будет нем, как мертвый. Всем известно, что император чтит твою мудрость и исполняет твои советы. Не от него, а от тебя зависит судьба Сената и народа Римского.
– Это не так, – все столь же спокойно возразил епископ, – я, как и мы все, лишь смиренный слуга священной особы императора. Но если бы, действительно, он опять снизошел ко мне, чтобы спросить моего совета, как служителя алтаря, получившего дары Духа Святого, – да, я сказал бы ему, что его волей руководил сам Бог. Пора, пора нам с корнем вырвать из империи последние остатки гибельных заблуждений, стереть последние следы нашего долгого рабства, ибо ты, Симмах, еще не знаешь, что истинная вера дает человеку истинную свободу.
– Оставим этот язык реторам, – сказал Симмах, видимо раздражаясь, – я знаю, что ты получил хорошее воспитание. Будем говорить просто. Неужели ты думаешь, что все жители империи признали иудейского Христа? Неужели тебе не известно, что мириады граждан чтят, – одни Юпитера, другие Баала, третьи Озириса? Почему религии должны враждовать между собой, а не могут жить в мире, если все они учат одному: поклоняться Божеству? Когда наши предки завоевывали землю, они не были нетерпимы к верованиям других народов, но охотно принимали в свой пантеон чужих богов, давали Митре и Исиде место рядом с Фебом и Дианой. Почему же вы, христиане, проповедующие любовь, знаете только ненависть к другим верам?
– Мы проповедуем любовь к истине и добру, а не ко лжи и обману, – ответил Амбросий. – Что такое ваши так называемые боги, одни с песьей головой, другие безобразные, с сотней грудей, боги-насильники, преследующие коварством и хитростями женщин, подымающие один на другого оружие, лгущие, прелюбодействующие, совершающие тысячи преступлений? Их ли мы должны любить, познав Бога единого, вечного, вездесущего, Бога истины и милосердия?
Эти слова епископ произнес уже гораздо менее спокойно, с явным намерением обидеть собеседника. Полуседая борода Амбросия тряслась. Но Симмах сдержал свое негодование и возразил тихо:
– От тебя подобных возражений я не ожидал. Ты знаешь так же хорошо, как я, что те образы, в каких изображают богов наши поэты и художники, и та сущность, которую мы чтим в богах, не одно и то же. Но я пришел не спорить с тобой о вере. Великая и непостижимая тайна вселенной не поддается человеческим исследованиям. Я пришел говорить с тобой от имени тех тысяч и тысяч людей, которые поклоняются богам и для которых алтарь, который ты приказал выбросить из Курии, есть нечто священное. Как ты с легким сердцем подымаешь руку на их верования и чувства, оскорбляешь их в том, что для них дорого. В течение более чем тысячи лет Рим благочестиво поклонялся божествам, установленным царем Нумой, – как же ты, без колебания, наносишь удар Риму, как убеленному сединами старцу? Римляне родились свободными и в свободе избрали свою веру, – почему же не оставить их в мире наслаждаться своими старинными обрядами, так как иных они не желают? Городу неведомо то учение, которому ему приказывают следовать, но он знает, что тот, кто берется исправлять почтенную старость, принимает на себя неблагодарный и бесславный труд.
– Теперь ты пользуешься приемами реторов, – с насмешкой сказал Амбросий. – Чего же ты требуешь? чтобы мы ни в чем не шли вперед сравнительно с нашими предками. Когда-то в Риме было установлено служение божеству Нерона; угодно ли тебе сохранить и этот алтарь? Если в нашем прошлом были заблуждения, мы об них должны жалеть и стремиться от них отказаться. Не стыдно и в старости исправлять свои ошибки, и не стыдно Риму изменяться со всем миром. Нет позора в том, чтобы перейти на сторону тех, кто прав, и никогда не поздно учиться истине.
Симмах встал, запахнул тогу, и мне было видно, что он даже дрожит от волнения.
– Аврелий! – сказал он. – Века, когда Римляне чтили богов, увенчаны славой и благоденствием. Призывая Юпитера и Mapca, Римляне весь мир подчинили своей власти. Боги удалили Ганнибала от стен Города и галлов из Капитолия. Не легкомысленно ли отвергать старое, которое доказало свою силу и свою благотворность, и подвергать себя неизвестности, хватаясь за новое, еще не испытанное! Можешь ли ты быть уверенным, что новая религия внушит то же мужество в сердца легионариев, послужит такой же обороной для границ империи, как религия Нумы, Цесаря и Августа?
Амбросий тоже встал, выпрямился во весь рост, смотрел гневно и более напоминал полководца на поле битвы, чем служителя христианского храма. Я не мог не подумать, что в другой век он водил бы наши легионы к славным победам и был бы воинами поднят на щит. Повышенным и почти яростным голосом епископ произнес:
– Почему ты приписываешь победы Римлян богам, а не искусству императоров и храбрости легионов? Ты говоришь, что боги удалили галлов из Капитолия. Но ведь они все-таки сожгли Рим! И если Капитолий не был взят, то не боги были тому причиной, а гуси. Где же тогда был твой Юпитер? не он ли кричал по-гусиному? Еще ты уверяешь, что боги защитили Рим от Ганнибала. Но тогда надо признать, что с этой защитой они не поторопились. Почему они ждали до самой битвы при Заме и позволяли пунам истреблять Римлян и при Тицине, и при Требии, и при Трасименском озере, и при Каннах? Сколько крови не было бы пролито, если бы твои боги действовали не так медлительно! Притом ведь и Карфаген так же веровал в ложных богов, как и Рим. Выбирай же: если боги были победителями вместе с Римлянами, тогда они были побеждены вместе с пунами. А если боги позволяли себя побеждать в прошлом, где же залог, что в будущем они нас будут водить только к победам?
Никогда я не видел Симмаха до такой степени взволнованным. Совершенно бледный, с трудом подавляя гнев, он сделал последнюю попытку убедить торжествующего епископа.
– Оставим богов, – сказал Симмах, – и подумаем о людях. Религия отцов учила доблести, военному мужеству, прославляла силу; религия Христа учит кротости, смирению, советует уступать противнику. Империя окружена врагами; везде варвары переходят границы; провинция за провинцией отпадает от наших префектур. Своими беспощадными мерами ты достигнешь одного из двух: или ты лишишь империю храбрых воинов, или ты возбудишь в ней гражданскую войну между приверженцами старой и новой веры. В обоих случаях восторжествуют враги, и империя погибнет. Неужели ты не Римлянин и тебе не дороже всего слава отечества?
– Пусть гибнет Рим! – громовым голосом воскликнул епископ. – Пусть гибнет империя! На ее развалинах я создам другую, вечную и непоколебимую. Я воздвигну новый Рим, и уже не Город подчинит себе некоторые племена земли, но Церковь христианская объединит в одно стадо все народы! Алтарь Победы не будет восстановлен в Римском Сенате! Я прикажу запереть все храмы ложных богов по всей империи! Я запрещу служить идолам и в общественных местах, и в частных домах! Я дам на земле торжество истинному Богу, и пусть рушатся земные царства, ибо царство Его не от мира сего.
Трясущимися губами Симмах произнес в ответ:
– После этого ты для меня – не Римлянин. Ты – не из рода Аврелиев. Ты – враг отечества. Итак, между нами война?
Но Амбросий быстро уже овладел собой, его лицо снова приняло выражение льстивого придворного, и он о снисходительной улыбкой возразил: