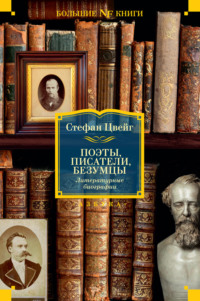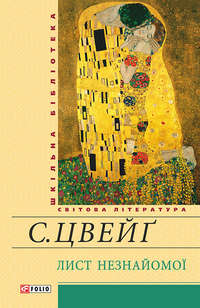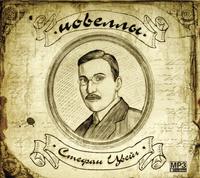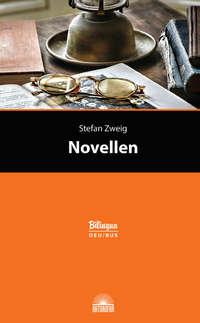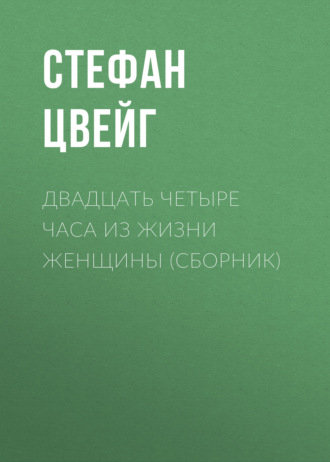
Полная версия
Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он встрепенулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.
– Да, так вот… подождите… да, так вот, это было так. Сижу я там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down»[1], совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтах о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.
Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?
Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец я иду вниз.
В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.
– Добрый день, доктор, – говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. – Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там (почему она не подъехала к дому? – молнией блеснула у меня в голове мысль) – и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог…
И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и неспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостьи. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливать на себя эту бесконечную болтовню. Наконец она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.
– Как у вас мило, – говорит она, осматривая мою комнату. – О, какая прелесть: книги! Я хотела бы их все прочесть! – Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз, с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.
– Разрешите мне предложить вам чаю? – спросил я.
Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки.
– Нет, спасибо, доктор… нам нужно сейчас же уходить… у меня мало времени… это была ведь просто маленькая прогулка… Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю… чудесная, удивительная вещь его «L'Education sentimentale»[2]… я вижу, вы читаете и по-французски… Чего только вы не знаете!.. Да, немцы, они проходят все в школе… Право, удивительно – знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож… наш добряк доктор годится только для игры в бридж… кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь) – сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами… и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала… ну вы сегодня, может быть, заняты… я лучше заеду в другой раз.
«Наконец-то ты раскрыла карты!» – сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.
– У меня ничего серьезного, – сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, – ничего серьезного, пустяки… женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, raide morte[3]… бой должен был посадить меня и принести воды… ну, может быть, шофер слишком быстро ехал… как вы думаете, доктор?
– Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?
– Нет… то есть да… в последнее время… именно в самое последнее время… да… обмороки и тошнота.
Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает… так нервно, почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере:
– Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь…
– Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс…
Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.
– Нет, нет, у меня нет жара… безусловно, безусловно нет… я измеряла температуру каждый день, с тех пор… с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда ровно тридцать шесть и четыре. И желудок у меня в порядке.
Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.
– Простите, – говорю я затем, – разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько вопросов?
– Конечно, вы ведь врач! – отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.
– У вас есть дети?
– Да, сын.
– А было ли у вас… было ли у вас раньше… я хочу сказать – тогда… было ли у вас подобное состояние?
– Да.
Ее голос стал теперь совсем другим – ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности.
– А возможно ли, чтобы вы… простите мой вопрос… возможно ли, чтобы вы находились теперь в таком же состоянии?
– Да.
Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице.
– Будет лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас… вы разрешите попросить вас… перейти в другую комнату?
Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.
– Нет… в этом нет надобности… я вполне уверена в своем состоянии.
Голос на миг умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.
– Итак, слушайте… но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это. К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты… и вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это: мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший нож. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу, – это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была… о, тут была стальная, чисто мужская решимость… с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня… что она могла подчинить меня своей воле… Однако… однако… и во мне сидела какая-то злоба… гордость мужчины, обида, потому что… я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.
Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так легко. Я заговорил, но… уклончиво… невольно переняв ее болтливую, равнодушную манеру Я делал вид, что не понял ее, потому что – не знаю, можете ли вы почувствовать это, – я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот… хотел, чтобы меня просили… чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом… и, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных, холодных женщин.
Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей, напротив, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из клинических журналов… я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и… все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.
И действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры.
– Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии… но теперь я уже не all right[4]… у меня бывают сердечные припадки…
– Вот как, сердечные припадки, – повторил я, изображая на лице беспокойство, – сейчас же посмотрим.
Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу.
– У меня бывают припадки, доктор, и я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования, вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие вам.
Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.
– Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И прежде всего снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.
Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо, такое, какое боялся увидеть, непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное не зависящей от возраста красоты, лицо с серыми английскими глазами, казалось, исполненными спокойствия, но скрывающими внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор.
Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:
– Знаете ли вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?
– Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния… хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив… устранив причину. В этом все дело?
– Да.
Как топор гильотины, упало это слово.
– А вы знаете, что подобные эксперименты опасны… для обеих сторон?..
– Да.
– Что закон запрещает их?
– Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.
– Это бывает только при наличии известных медицинских данных.
– Так вы найдете эти данные. Вы – врач.
Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», – мелькало во мне какое-то смутное желание.
– Это не всегда во власти врача. Но я готов… посоветоваться с коллегой в больнице…
– Не надо мне вашего коллеги… я пришла к вам.
– Позвольте узнать, почему именно ко мне?
Она холодно взглянула на меня.
– Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы… – она в первый раз запнулась, – вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если… если вы сможете увезти домой приличную сумму.
Меня так и обдало холодом. Эта сухая, купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить.
Я чувствовал, как проникала в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.
– И эту приличную сумму вы… вы предоставили бы в мое распоряжение?
– За вашу помощь и немедленный отъезд.
– Вы знаете, что я, таким образом, теряю свою пенсию?
– Я возмещу вам ее.
– Вы говорите очень определенно… Но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?
– Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.
Я задрожал… задрожал… от гнева и… и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной в предвидении своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину… Но, когда я поднялся дрожа, – она тоже встала, – я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела… овладела… какая-то жажда насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека, между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то… за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз говорили друг с другом вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, заползла мне в душу мысль, и я сказал… сказал ей…
Но подождите, так вы неправильно поняли бы, что я сделал… что сказал… мне нужно сначала объяснить вам, как… как зародилась во мне эта безумная мысль…
Опять тихонько звякнул в темноте стакан. И голос сделался более возбужденным.
– Не думайте, что я хочу извиняться, оправдываться, обелить себя… Но вы без этого не поймете… Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком… но, кажется, помогал я всегда охотно… это была ведь единственная радость в моей собачьей жизни, когда я, пользуясь крупицей знаний, уцелевших у меня в голове, спасал какую-нибудь тлеющую искорку жизни… я чувствовал себя тогда маленьким богом… Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, со змеиным укусом на вспухшей ноге, заранее выл, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я проводил долгие часы в пути, чтобы посетить лежащую в лихорадке женщину; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, – еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, это сознание, что ты нужен другому.
Но эта женщина – не знаю, могу ли объяснить вам это – волновала, раздражала меня с той минуты, когда вошла в мой дом, словно мимоходом, вызывала своим высокомерием сопротивление, будила во мне все… как бы это сказать… будила все подавленное, все скрытое, все низменное. Меня сводило с ума то, что она разыгрывала леди и с холодной неприступностью предлагала мне сделку, когда речь шла о жизни и смерти. И затем… затем, в конце концов, от игры в гольф не становятся ведь беременными… я знал… то есть я должен был вдруг с ужасающей ясностью представить себе… это и была та мысль… с ужасающей ясностью представить себе, что эта спокойная, эта надменная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда я, только для протеста… да, почти негодующе взглянул на нее, что она два или три месяца назад, разгоряченная, лежала в постели с мужчиной, голая, как зверь, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как их губы… Вот это, вот это и была обжигавшая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой неприступной холодностью, словно английский офицер… и тогда, тогда все напрягалось во мне… и я обезумел от мысли унизить ее… с этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело… с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в порыве сладострастия, как тот, другой, которого я не знал. Это… это я и хотел вам объяснить… Как я ни опустился, я, как врач, никогда не пытался злоупотреблять своим положением… но на этот раз это ведь не была похоть, в этом не было ничего сексуального, я говорю правду… я ведь не стал бы отпираться… только страстное желание победить ее гордость… стать ее господином, как мужчина… Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, холодные на вид женщины всегда имели надо мной особую власть… но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не имел белой женщины, что я не знал сопротивления… Здешние девушки, эти щебечущие изящные зверьки, дрожат ведь от благоговения, когда их берет белый человек, «господин»… они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы отдаться со своим тихим гортанным смехом… но именно эта покорность, эта рабская угодливость и отравляет все наслаждение… Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, застегнутой на все пуговицы и в то же время дразнившей своей тайной и отягченной недавней страстью… когда подобная женщина дерзко входит в клетку такого мужчины, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя… Это… вот это я хотел вам только сказать, чтобы вы поняли все остальное… поняли то, что теперь произошло. Итак… полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я словно сжался весь в комок и напустил на себя равнодушный вид. Я холодно произнес:
– Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, это меня не удовлетворяет.
Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Но все же она сказала:
– Сколько же вы хотите?
Я больше не желал говорить спокойным тоном.
– Будем играть в открытую. Я не делец… не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за презренное золото… я представляю собой, скорее, противоположность делового человека… этим путем вам не удастся достигнуть желаемого.
– Так вы не хотите это сделать?
– За деньги – нет.
На миг воцарилась тишина. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.
– Чего же вы еще можете хотеть?
Теперь я больше не владел собой.
– Во-первых, я хочу, чтобы вы… чтобы вы обращались ко мне не как к торговцу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна помощь, не… совали сейчас ваши гнусные деньги… а попросили… попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку… я не только врач, у меня не только приемные часы… у меня бывают и другие часы… может быть, вы пришли бы в такой час…
Она минуту молчит. Потом ее рот слегка кривится, дрожит и быстро произносит:
– Значит, если бы я вас попросила… тогда вы сделали бы это?
– Вот вы уже опять хотите заключить со мной сделку, вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.
Она высоко вскидывает голову, как горячая лошадь; с гневом смотрит она на меня.
– Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть.
Тут мною овладевает гнев, красный, безумный гнев.
– Тогда я требую, если вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее, – вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда, тогда я вам помогу.
На миг она остолбенела. Потом, – о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, – потом ее черты нахмурились, и потом… потом она вдруг расхохоталась… с нескрываемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо… с презрением, которое уничтожило меня… и в то же время еще больше опьянило… Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный… такая чудовищная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я… да, я готов был упасть на колени и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение… словно молния; у меня был огонь во всем теле… вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.
Я невольно хотел пойти за ней… просить прощения… умолять ее… моя сила была ведь совсем сломлена… но она еще раз обернулась и сказала… и это звучало как приказ:
– Не смейте идти за мной или наводить справки… Вам пришлось бы раскаяться.
В тот же миг за ней захлопнулась дверь.
Снова пауза. Снова молчание… Снова неумолчное журчание, словно от струящегося лунного света. И наконец опять его голос:
– Хлопнула дверь… но я стоял, не двигаясь с места… я был словно загипнотизирован ее приказом… я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь… я слышал все, и вся моя воля устремилась ей вслед… чтобы ей… я не знаю, что… чтобы позвать ее назад, или ударить, или задушить… но только за ней… за ней… Но что-то удерживало меня. Мои ноги были словно парализованы электрическим ударом… я был поражен, поражен в самую душу убийственной молнией ее взора… Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать… это может показаться смешным, но я все стоял и стоял… прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли…
Но как только я ступил ногой, я уже снова весь горел и готов был бежать… вмиг слетел я с лестницы… Она могла ведь пойти только по улице, ведущей к станции. Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку… я должен… я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль… я должен поговорить с ней…
Я мчусь, оставляя за собой облака пыли… теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении… там… на повороте в лесу, перед самой станцией я вижу ее, идущую торопливым твердым шагом, в сопровождении боя… Но и она, несомненно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна… Что она задумала? Почему хочет быть одна?.. Может быть, она хочет поговорить со мной так, чтобы он не слышал?.. Яростно нажимаю я на педали… Вдруг что-то бросается сбоку передо мной на дорогу… это бой… я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю…
Встаю с ругательствами… невольно заношу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он легко увертывается… Встряхиваю свой велосипед, собираясь снова вскочить на него… Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и бормочет на ломаном английском языке: «You remain here»[5].
Вы не жили в тропиках… Вы не знаете, какая это дерзость, когда такой желтокожий бездельник хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает остаться на месте. Вместо ответа я заезжаю ему кулаком в физиономию… он отшатывается, но все-таки держит велосипед… его глаза, узкие трусливые глаза, широко раскрыты и полны рабского страха… но он держит руль, держит его чертовски крепко… «You remain here», – бормочет он еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы мальчишку. «Прочь, каналья!» – прорычал я. Он глядит на меня, весь согнувшись, но не отпускает руля. Я наношу ему новый удар по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость… я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала… я закатываю ему настоящий боксерский удар в подбородок, сшибающий его с ног… Теперь велосипед опять в моем распоряжении… вскакиваю в седло, но машина не идет… во время борьбы погнулась спица… Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее… Ничего не выходит… тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, который встает, весь в крови, и уходит в сторону… И тогда, нет, вы не можете понять, каким смешным и позорным считается там, если европеец… словом, я не соображал уже, что делал… у меня была только одна мысль: бежать за ней, догнать ее… и я пустился бежать, бежал как сумасшедший по деревенской улице мимо лачуг, где желтый сброд в изумлении теснился у дверей, чтобы видеть, как бежит белый человек, как бежит доктор.
Обливаясь потом, добрался я до станции… Мой первый вопрос был: «Где автомобиль?..» – «Только что уехал…» С удивлением смотрели на меня люди: я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал мокрый и покрытый грязью и еще издали выкрикивал свой вопрос… На улице за станцией я вижу клубящийся белый дымок автомобиля… ей удалось удрать… удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие расчеты…
Но бегство ей не поможет… В тропиках нет тайн между европейцами… один знает другого, всякая мелочь вырастает в событие… Не напрасно простоял шофер целый час перед правительственным бунгало… через несколько минут я знаю все… Знаю, кто она… что живет она внизу в… ну, в областном городе в восьми часах езды отсюда по железной дороге… что она… ну, скажем, жена крупного коммерсанта, безумно богата, из хорошей семьи, англичанка… знаю, что ее муж пробыл теперь пять месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы взять ее с собой в Европу…