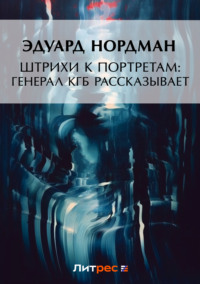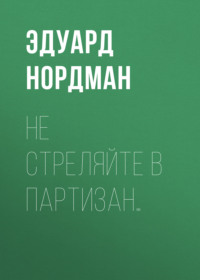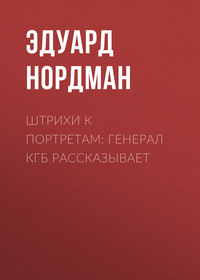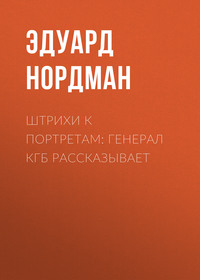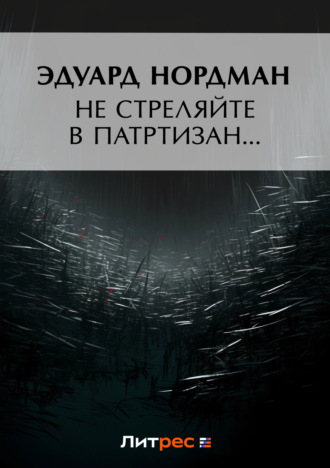 полная версия
полная версияНе стреляйте в партизан…
И вот 25 июля к Коржу подошел его заместитель Березин. В некоторых бумагах он значится как Дерезин. Я даже не помню, как он оказался в нашем отряде. Так вот этот Березин-Дерезин потребовал от Коржа идти вслед за фронтом:
– Что мы сделаем с одними винтовками! У них танки, артиллерия. На фронте мы принесем больше пользы. Среди нас есть больные. Надо уходить. Раздавят нас.
Были и такие суждения: мы, командиры, на фронте возглавим роты, батальоны и принесем больше пользы. Зачем нам быть рядовыми в маленьком отряде! Примкнувшие к нам командиры Красной Армии активнее других высказывались за уход к фронту. Оно и понятно. Партизанской борьбе их не обучали, они не были готовы к ней даже психологически.
Корж сначала возражал, потом решил, что нельзя никого удерживать силой. Только доброволец может быть полноценным партизаном, считал он. Построил отряд и обратился к бойцам:
– Кто чувствует, что не может воевать в тылу врага, кто болен – два шага вперед!
Вперед шагнула почти половина отряда – три десятка человек. Стали делить припасы. Продуктов было не жалко, хотя их осталось очень мало. Разделили все по-братски. А вот из-за оружия пришлось поругаться. Уходившие уносили три автомата, у нас оставался только один, тот самый, который достался нам в первом бою у Рябого моста.
Откровенно говоря, мы серьезно переживали. Уходили-то крепкие, в основном хорошо обученные военному делу мужики. Примерно в то же время мы встретились с отрядом, которым командовал начальник Ленинского районного отдела НКВД Сахаров. Он создавался для действий именно в этом районе.
Корж и Сахаров обсудили план действий, договорились о проведении засад на дорогах Лахва—Ленин, Ленин—Старобин. Но через несколько дней Сахаров тоже повел свой отряд на восток, оставив нам трех человек из местных. Корж крепко психовал и в глаза спрашивал Сахарова: «Почему не сказал в райкоме, что у тебя кишка тонка, что не выдюжишь?! На тебя возлагали надежды, а ты…»
Впоследствии Василий Захарович называл таких «хнытиками». Видимо, слова хныкать и ныть он соединил в одно. А еще – маловерами, испугавшимися трудностей. Вспомнил об этом эпизоде и в своей записке Центральному партизанскому штабу. Добавил, что аргументов у него тоже было маловато. Его отряд был единственным партизанским формированием в районе.
Некоторые отряды были разбиты, другие двинулись к фронту. Рассчитывать на чью-то помощь не приходилось. А просто слова, что уходить нельзя, что нужно воевать здесь, в тылу врага, повисали в воздухе.
В глубине души я понимаю тех «уходцев». Есть такая русская поговорка: «На миру и смерть красна». Смысл ее в том, что все-таки легче драться, чувствуя локоть многих сотоварищей, так сказать, умирать на виду. Можно даже рубаху на груди рвануть. Это по-нашенски, по-русски. Зато люди запомнят, другим расскажут, и не канет в Лету ни человек, ни его поступок.
А тут как раз давило ощущение одиночества. Надо было уходить в неизвестность, зная, что во всей округе, в лучшем случае в двух определенных для нас районах, наш отряд – единственный, по крайней мере, пока.
Понимали, что рассчитывать нужно только на себя. Никакой готовой базы нет, значит, твоя постель – несколько еловых веток, а крыша над головой – кроны деревьев. Если сегодня поел, это не означает, что поешь и завтра. А случись что-либо с отрядом, ни мать, ни отец, ни жена, если таковая есть, не узнают, где тлеют твои косточки.
Особенно действовало на психику чувство несоизмеримости сил. Что такое несколько десятков человек на фоне потоков оккупантов, движущихся по всем дорогам! Это был очень трудный выбор для любого. И человек делал его сам. Это была драма, в которой каждый был и автором, и героем, и жертвой.
С Березиным-Дерезиным ушли не только армейские командиры. Ушли комсомольские работники М. Ласута, Д. Тябут, В. Хоменюк. Неизвестно, дошел ли кто-нибудь из них до фронта.
Знаю, что Д. Тябут потом оказался в Витебской области и стал комиссаром бригады. После войны был министром в белорусском правительстве, возглавлял Минский облисполком. В. Хоменюк остановился в Гомельской области, в своих родных местах, а позже стал комиссаром партизанского отряда.
Мы – молодежь, комсомольцы – единодушно держались Коржа. Однако уход части людей произвел на всех удручающее впечатление. Нас оставалось менее двух десятков – 17 человек. Однако мы намерены были продолжать действовать. Василий Захарович постоянно повторял нам, что отряд, который не будет воевать, станет отсиживаться и пережидать время, неизбежно превратится в банду.
Удачная операция, проведенная 5 августа, показала, что наша даже немногочисленная боевая единица способна бороться, что мы обязательно будем сражаться, потому что дух наш крепок. Этот дух был главной нашей опорой и единственной мотивацией.
После боя отряд быстро ушел в глубь леса. Через час у места, где мы делали засаду, снова появились немцы и начали жестокий обстрел леса из минометов и пулеметов. Но мы были уже вне пределов досягаемости их огня.
Отмахав километров десять, сделали привал. Командир разрешил выпить по 50 граммов рома или коньяка. Я никогда до этого не употреблял спиртного, поэтому отказался. Мне это казалось противным до невозможности, а зря. Надо было принять немного для профилактики. Началась дизентерия, и не только у меня.
Под звуки немецкого обстрела мы быстренько закончили трапезу и вперед, к спасительным болотам. До лагеря добрались к вечеру.
Но последние километры меня уже несли на самодельных носилках. Потерял сознание, упал. Хорошо, что вес был «петушиный», как говорят боксеры. Меньше пятидесяти килограммов. Так что нести меня, полагаю, было не очень тяжело.
Переболели тогда многие, но тяжелее всех болел я. Лекарств никаких. «Доктор» Гусев (в тридцатые годы он был санинструктором кавалерийского эскадрона в Красной Армии) отпаивал настоем из каких-то трав, горьким и противным.
Есть записи о тех болезнях и в дневнике В. 3.Коржа. Одна из них, помеченная 6 августа, касается и меня: «Два человека заболели кровавым поносом. Один при походе упал, пришлось нести».
Интересна и еще одна его запись. Смысл ее следующий. Сидели мы тогда посреди большого болота, на острове. Холодно. Голодно. Хлопцы мучаются животами. Пошел по острову и подстрелил из нагана рябчика. Ощипали, сварили птицу.
Партизаны едят и удивляются: это же надо, командир из нагана попал в рябчика. И далее Корж добавляет, что никакого труда это для него не составило, но все равно слышать похвалу было приятно.
7 августа заболел и он сам. Четырьмя днями позже, 11 августа, Корж делает пометку: «Во второй половине дня я себя стал чувствовать опять плохо…» Ученого слова «дизентерия» он не употреблял. Пользовался более привычной, крестьянской лексикой.
Выручили нас пастухи из колхоза «Комсомолец». Они принесли немного овсяной крупы и два пуда муки. Мы упросили их под расписку отдать колхозного бычка.
Старший из пастухов Григорий Давидович больше ничего не дал. «Нельзя, – сказал, – потому что это не наше, а общественное». Плохо, что не было соли. Правда, был мед. На месте сожженного хутора осталась пасека. На могучих дубах и липах – около десятка колод-ульев.
Нашлись среди нас «бортники» поневоле. Окуривали пчел пороховым дымом. Вынимали из патрона пулю, поджигали порох и приставляли к летку. Бедные пчелы «отдавали» мед.
Способ варварский, но другого выхода не было. Это было спасением для нас. Но мед – такой продукт, что его много не съешь. Один партизан, кажется, Витя Лифантьев, переел и катался по земле от боли в животе.
Дед Дубицкий, мудрый человек, спасал его по собственной методике. Разложил большущий костер, уложил больного поближе к огню и держал его так до тех пор, пока на животе не появились кристаллики сахара. Возможно, кто-то не поверит, но мне запомнилось именно это.
Так питались пару недель: собирали чернику, варили в котелках на костре, добавляли мед. Жарили грибы на костре, но без соли это не еда. Только-только больные стали поправляться, как начались дожди. Все промокли до нитки. Оружие покрылось ржавчиной. А ружейного масла ни у кого не было, только щелочь.
Неожиданно 11 августа в отряд пришли два командира Красной Армии, пробиравшиеся к линии фронта. Один с карабином, другой с винтовкой СВТ – самозарядной. Оба двигались из-под Минска. Они стали первым пополнением.
Потом пришел комсомолец из деревни Боровое Иван Алексеевич Некрашевич. Он попал в окружение, но до своей деревни в Житковичском районе добрался с двумя винтовками. Он попросил взять вместе с ним в отряд брата Григория, сестру Веру и младшего брата Михаила, которому было всего шестнадцать лет.
Позже пришел и средний брат Сергей, железнодорожник со станции Орша. Прекрасное пополнение. Целая первичная комсомольская организация, шутили тогда ребята.
Иван в 1943 году стал командиром отряда. Хорошо воевала вся семья до июля 1944 года. В те дни вернулись в отряд Владислав Станиславович Буйницкий и Константин Иванович Конушкин, которые сопровождали до Гомеля Веру Хоружую. Принесли нам пожелания успехов и сообщение о том, что ЦК ничем пока помочь не может. Раций в наличии нет, а оружия два человека за полтораста километров много не унесут.
Через неделю оклемались и опять в поход. Покинули гостеприимный лес 15 августа, а 16-го ночевали в лесу у озера рыбхоза «Белое».
До сих пор помню ту ночь. Звездное небо, земля, нагретая солнцем. Карпы резво плещутся. Их выпустили из прудов в озеро, чтобы не достались оккупантам. Видать, крупные. Ударяли хвостом по воде так, что слышно было за версту. Странная все-таки натура человек. Даже в самых трудных обстоятельствах в памяти откладывается что-то жизненное.
Командир конспиративно встретился со связной Алиной Игнатьевной Кирибай. Она описала обстановку в окрестных деревнях. Встретился и с Анной Васильевной Богинской из рыбхоза, которая сообщила, что убитых нами немцев хоронили с почестями. Но народу эти похороны напомнили о другом: жива советская власть, воюет.
Молва о неуловимых и вездесущих «комаровцах» уже разнеслась по всей округе. И дело было не только в проведенных нами операциях.
Корж знал психологию людей. Поэтому он не упускал случая, когда можно было, всем отрядом открыто пройти по деревне, остановиться, не спеша побеседовать, не отказаться от приглашения перекусить. Раздавали написанные от руки листовки. Это в основном были выдержки из июльской речи Сталина.
Вот красноречивые записи в дневнике В.З. Коржа, относящиеся к тому времени:
«20.08.1941. Я почувствовал, что последние три дня наше легальное появление в деревнях и разговор со всеми и некоторыми языкастыми в отдельности дал большую пользу в нашу сторону. 9.09.1941. Утром вышли из хутора Стеблевичи и демонстративно прошли через всю деревню. С многими говорили, позавтракали в нескольких дворах».
Партизаны показывали свою уверенность. Зерна этой уверенности находили почву для прорастания. Забирая из местных складов или магазинов продовольствие, оставшееся с советских времен или собранное по приказу оккупантов, обязательно оставляли записку, что изъятие сделали «комаровцы».
А поскольку все продовольствие нам унести не было возможности, остальное раздавали людям. Те поначалу брать опасались, но когда мы писали записку, что это работа «комаровцев», вычищали склады до зернышка.
Группы по сбору продовольствия Корж направлял в разные деревни и разные стороны одновременно. Это тоже помогало создавать впечатление, что нас много.
В селах, через которые мы проходили, особенно после разгрома местных полицейских участков, обязательно проводились собрания населения. Были откровенные, зачастую трудные для нас дискуссии, в которых опять же самым трудным был вопрос «почему».
Позволю себе еще раз обратиться к докладной записке В.З. Коржа, в которой он пишет, что 24 августа «…взял всех боевых товарищей, и пошли маневрировать по деревням Житковичского района… с задачей уничтожать полицию, которая росла по деревням, множила и распространяла свое влияние на людей. Они легко поддавались полицейскому влиянию, потому что ничего не знали о фронте, а немцы распространяли слухи, что уже занята вся Россия, Москва.
Наш открытый поход по деревням и рассказ правды населению сделал много полезного для партизан, подрывал и опрокидывал то влияние полиции и немцев на население, которое они создавали. Такая же работа была проведена среди местного населения Ленинского района… Одновременно наше быстрое и умелое маневрирование создавало у людей впечатление о множестве партизанских отрядов, в то время как на самом деле наш отряд был единственным».
Уже в Краснослободском районе (на нынешней Минщине) Корж сделает для себя такую пометку: «Само присутствие партизанского отряда в районе поднимало дух населения».
Не могу не сказать о том, что на первых порах для меня и моих молодых товарищей было просто дико слышать о какой-то «немецкой полиции» из местных жителей, о «старостах», «солтысах», что одно и то же, только первое на русский и белорусский манер, второе – на польский. Мы свято верили тому, что писали в газетах до войны, были убеждены в нерушимом единстве и сплоченности советского народа.
Я твердо был уверен, что все люди за советскую власть. А тут такое… Свои стали бояться своих. И не только бояться, предавать, убивать. Не щадили даже женщин и детей. У меня это с трудом укладывалось в голове. Не хотело укладываться. Нам пришлось воевать не только с немцами, но и с полицаями, власовцами, различными легионерами – прибалтийскими, кавказскими, туркестанскими.
Помню, послали меня в деревню раздобыть хлеба для отряда. Выбор пал на меня, потому что я был из восточных краев Белоруссии, а местных партизан в деревне могли узнать. Послали еще с одним бойцом для надежности. Но он был чистый «русак», поэтому условились, что он будет изображать немого. Мы оба беженцы, пробираемся домой.
Зашли в один из дворов. Там – несколько мужчин. Хозяйка как раз испекла хлеб и выкладывала на расстеленной скатерти большие, круглые и еще горячие буханки. Стали просить продуктов в дорогу. Сельчане давай расспрашивать: кто мы, откуда.
Оказалось, что один из мужиков – только что назначенный староста. Вот он-то и не поверил мне. Скомандовал тащить вожжи, чтобы повязать нас. Пришлось достать из-под рубашки пистолет, забрать несколько буханок и смываться. Да еще сделали большой круг, чтобы не навести никого на своих товарищей. А те уже отчаялись ждать.
Впоследствии некоторых из тех мужиков я встретил в одном из партизанских отрядов. Спросил: «Что ж вы так тогда?» Смущались, разводили руками.
Через много лет после войны уже в 1971 году я работал начальником управления КГБ по Ставропольскому краю. Каждый год на отдых в санатории Кисловодска и Железноводска приезжал отдыхать председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. Говорили с ним о многом и откровенно.
Однажды я рассказал ему о партизанских делах, о том, как все было в самом начале войны. О том, что уже в первые месяцы появились предатели, полицаи, старосты, которые пошли в услужение к оккупантам. И вдруг Андропов задал вопрос:
– А если, не дай Бог, в наше время возникнет ситуация, подобная 1941 году?
– Могу сказать, что предателей и негодяев будет в несколько раз больше.
– Подумай, что говоришь.
– Я думал об этом не один день и не одну ночь.
До 1991 года – распада СССР и последовавшей за этим вакханалии – Ю.В. Андропов не дожил семь лет. Полагаю, ему было бы чему удивляться. Но это, как принято говорить в таких случаях, из другой оперы. А тогда разговор был долгим и непростым.
Однако я был уже зрелым человеком, неплохо информированным об обстановке в стране и в различных ее регионах. А в 1941-м мне было девятнадцать. С новой ситуацией приходилось сживаться и бороться одновременно.
20 и 21 августа мы устроили засады на дороге Ленин – Микашевичи. Особенно удачным был день 21 августа. Подбили мощный мотоцикл, уничтожили двух мотоциклистов. Один их них был начальником микашевичской полиции. У него нашли рапорт немецкому военному коменданту о действиях нашего отряда. Не думал он, что попадет его рапорт в наши руки. Комендант предлагал немцам, где, в каких деревнях провести карательные операции против партизан.
На дорогу около райцентра Ленин оккупанты выгоняли молодых евреев ремонтировать деревянные мосты. С одной такой группой мы долго беседовали.
– Уходите с нами в партизаны, – убеждали мы. – Будем вместе воевать против фашистов.
– Нет, не можем уйти с вами, немцы расстреляют заложников.
У каждого была своя причина:
– У меня мама тяжело больна, за детьми некому присмотреть.
– У меня две сестры и брат малолетний, расстреляют их.
– Но вы должны понять, что расстреляют и вас, и ваших родных. Всех расстреляют. У нас тоже нет никакой гарантии, что останемся в живых, но лучше погибнуть в бою за Родину, чем умереть бесславно.
Так мы, комсомольцы, агитировали молодых ребят. Они почти согласились. Однако старший из гетто что-то грозно сказал им на еврейском языке, и они присмирели. А уже осенью немцы уничтожили несколько сотен евреев в том самом гетто.
И только летом 1942 года отряды В.З. Коржа, Н.Т. Шиша и отряд имени С.М. Кирова разгромили гарнизон в райцентре и освободили уцелевших узников гетто. Большинство из них ушли в партизаны, а многие – пожилые, женщины и дети – укрылись в так называемых семейных лагерях в партизанской зоне.
Тысячи людей погибли, поверив немцам и еврейским «авторитетам-юденратам», что они останутся в живых, если отдадут все ценности оккупантам.
Только в Пинске той осенью было уничтожено более десяти тысяч евреев. Немецкие власти пригласили их якобы на регистрацию. Потом построили в колонну по четыре, вывели за город, заставили вырыть ров и расстреляли. Так было в Лунинецком, Столинским и других районах области.
В то же время должен сказать, что в партизанских бригадах имени Молотова, Куйбышева, Кирова и других евреи сражались наравне со всеми. Шацман, Доминич, Карпюк, Хинич стали бесстрашными разведчиками-партизанами.
Были среди них прекрасные оружейники, которые не только чинили оружие, но и создавали автоматы собственной конструкции. Сапожники и портные обували и одевали бойцов. Пригодились в отрядах повара и пекари. На войне всем находится дело. А сколько в гетто было прекрасных врачей, которых так не хватало в отрядах.
Наш поход по деревням и районам длился до 10 сентября. В двадцатых числах августа в отряде случился, можно сказать, праздник. Принесли бытовой радиоприемник, кажется, «Пионер». Шая Беркович соорудил из проволоки антенну и настроился на московскую волну.
Мы узнали, что героически дерутся моряки на острове Ханко, что идут бои за Таллинн, а моряки нашей Пинской флотилии воюют на Березине. Услышали также, что советские и английские войска вошли в Иран. Значит, есть у страны силы, сражается Красная Армия на всех фронтах и не помышляет о прекращении борьбы.
Сводки Совинформбюро мы записывали и переписывали. Раздавали в деревнях. Это была для нас пища, может быть, даже более нужная, чем хлеб. И не только для нас, но и для тех, кто верил в нас, снабжал продовольствием, ценной информацией.
В тот же день группа Ивана Некрашевича сходила в его родную деревню Боровое и принесла три пуда муки. Корж приказал испечь хлеб. И не кому-нибудь, а жене старосты ближайшей деревни. Пусть попробует после этого доложит немцам, что кто-то помогал партизанам. Некрашевич и его хлопцы притащили и картошки. Наелись мы тогда досыта, что в то время случалось не часто. Потому и запомнилось, наверное.
В те дни Корж раз за разом ходил по разным местам вдоль реки Случь. Мы тогда впервые узнали, что, оказывается, он в свое время работал в Слуцком НКВД и отвечал за подготовку партизанских кадров на случай войны и за тайники с оружием и продовольствием.
Теперь он надеялся найти очень нужные нам пулеметы, тол, патроны, обмундирование и другие необходимые на войне вещи. Но каждый раз Василий Захарович возвращался расстроенный. Правда, кое с чем он все-таки приходил. Лучше сказать, кое с кем.
В селах вдоль бывшей границы СССР сохранились партизанские кадры. Из Долговского сельсовета (Солигорский район) пришел в отряд Гавриил Петрович Стешиц. В первых числах июля он организовал небольшой отряд из односельчан, разрушал телефонную связь, деревянные мосты. Один раз обстреляли из засады немецких мотоциклистов.
Василий Захарович был очень рад этой встрече и его приходу к нам. В лице Стешица и его товарищей появились люди, знающие каждую стежку-дорожку, настроения сельчан. А главное – патриоты. Это много значило в то трудное время. Вскоре мы на конкретном примере убедились, как нужен и важен для нас человек, который знает, что и как надо делать.
В Старобинском районе в середине сентября мы встретились с группой партизан этого района. В отряде было 35 человек. Большая часть – из местного населения, в том числе еврейского. Почти весь состав отряда Василию Захаровичу был знаком, так как он сам был из этого района и долгое время здесь работал. Впрочем, его знали во многих районах.
Нас удивило, что многие стали проситься к нам. Объясняли свое решение так: «У нас нет командира». Другие говорили, что у них очень много командиров, не знаешь, кому подчиняться.
И в самом деле, командир давал распоряжения, а бывший председатель райисполкома, находившийся в отряде на правах рядового бойца, отменял его. А партизаны-то знают, что он не командир и не комиссар. Да и бойцом назвать его было трудно, так как он распоряжений командира откровенно не выполнял.
Корж понимал, что командир в отряде совершенно неопытен, руководить попросту не умеет. Для начала он провел беседу с парторгом отряда Никитой Ивановичем Бондаровцом. И прямо сказал: «Нельзя ПОЗВОЛЯТЬ так подрывать авторитет командира. Или вы ему помогайте руководить, или поставьте другого товарища».
Вопрос был вынесен на партийное собрание. Командиром избрали Н.И. Бондаровца. С ним Василий Захарович сразу же условился провести следующий рейд, выделив для этого шесть десятков бойцов из двух отрядов. Планировалось пройти этим рейдом километров 300.
Выступили 2 октября. Важнейший результат похода содержится в следующих словах из отчета Коржа Центральному штабу партизанского движения: «…Разговаривали с людьми, и население из нас 60 делало 600 человек и больше. Для нас это было очень полезно».
Но завершить рейд так, как планировалось, не получилось. К сожалению, в нашем отряде уже недели две снова шло брожение. Душевные терзания того драматического времени, осени 41-го, несравнимы ни с чем. Больше я такого не помню за всю свою долгую жизнь. Особенно страшила многих подступавшая зима. Споры у ночного костра были жаркими, иногда ожесточенными:
– По первой пороше перебьют нас немцы, как зайцев. Можно затаиться в схроне, в землянке… А есть что будешь зимой? – говорили одни.
– Надо разойтись по домам, по знакомым, родственникам, спрятать оружие, а весной собраться в лесу, в условленном месте и снова партизанить, – предлагали другие.
О таких кто-то едко выразился: «Будешь в доме, будешь в хате и с женою на кровати».
Корж отвечал:
– Да, перебьют нас по первому снегу, как зайцев, если будем прятаться. Но мы же не зайцы. Будем и зимой бить немцев. Немцы на танках, а мы на конях и санях по лесам и болотам. Пусть угонятся за нами. У нас одна дорога, а у немца – их сотня, чтобы нас выследить.
На него наседали:
– Давайте пока еще не поздно двигаться к фронту, там передохнем, вооружимся получше – и опять в бой.
Он упорствовал:
– До фронта, считай, тысяча километров. Надо воевать здесь, в тылу врага. Один партизан может сделать то, что не под силу целому батальону или полку. Подорвешь эшелон с танками или боеприпасами, уничтожишь железнодорожный мост – посчитай, сколько жизней солдатских спасешь на фронте.
Судили-рядили… Думы тяжкие у каждого о Родине, о семье, о себе. Мы, молодые, как-то легче относились к жизни. А вот пожилые терзались больше. Но 23 сентября состоялось партийное собрание отряда, и большинство (десять человек) проголосовало за то, чтобы обязать коммуниста В.З. Коржа вести отряд к линии фронта. В ответ Корж отрезал:
– Меня обком партии оставил в тылу врага. Вы что, выше обкома?
Однако споры в отряде не утихали. Бродил народ. И в середине октября Корж с болью в душе отпустил еще одну группу людей за линию фронта. Ушли В.А. Морозов, Ф.И. Положенцев, И.А. Сидорович, А.А. Гусев, П.И. Павлов, К.И. Конушкин, Т.Н. Шардыко – все люди уже немолодые, руководители областных организаций.
Ушли с ними С.А. Полонников, С.И. Тронов – недавно появившиеся в отряде окруженцы. Их-то понять еще можно было, они рассчитывали вернуться в свою часть. Важно было и то, что многие ушли и забрали свои автоматы. Осталось их у нас в отряде только три.
В тылу врага над тобой нет прокурора, нет судьи, нет военного трибунала. Ты сам себе и судья, и прокурор, над тобой только твоя совесть. От совести не спрячешься, не убежишь, не уклонишься. Она всегда с тобой, это высший судья. Вот она и диктовала каждому свое.