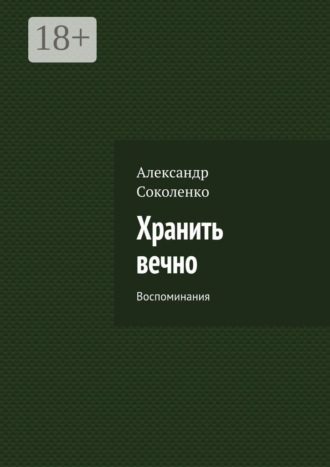
Полная версия
Хранить вечно. Воспоминания
Артистами были дрессированные сурки, которых он ловил в горах Тянь-Шаня в очень молодом возрасте. Путем многочисленных упражнений он натаскивал сурков так, что они на импровизированной площадке показывали чудеса борьбы, подчиняясь приказаниям своего воспитателя.
Но занимался Илья Емельянович своими артистами только тогда, когда у него было настроение. А настроение было связано с положением торговых дел.
8. Пчеловодство
Шла первая мировая война. Илья Емельянович числился в крестьянском сословии и был призван в армию. Как и дед его, когда-то в Отечественную войну 1812 года, приняв от него героическую эстафету, Илья Емельянович в первый год службы за героические поступки получил пару крестов. Он хотел стать полным Георгиевским кавалером, но в конце 1915 года был контужен, попал в госпиталь и после выздоровления по состоянию здоровья был полностью снят с воинского учета.
– Когда я вернулся домой, рассказывал Илья Емельянович, – опять возник вопрос: чем заняться? Для купечества нужно было иметь хорошее здоровье. Так что это занятие само по себе отпадало. Когда-то в детстве с дедом своим я много возился с пчелами, знал это дело, и меня снова потянуло к нему. Высмотрел я в верховьях Катуни одно непригодное ни для чего, кроме пчеловодства, место и купил его у общества.
Участок этот представлял собой косогор, сориентированный на юг, покрытый лесом, по которому протекал веселенький ручей. Прежде всего, я навалил бревен для будущих ульев, на ручье построил мастерскую с пилорамой и всякими механическими приспособлениями для распиловки, строгания и других работ. Все эти приспособления двигала вода из ручья.
Через год после начала работы на моей пасеке уже стояла тысяча ульев. Пчелиные семьи я выписывал из-за границы, по почте, через Петербургское пчеловодное общество, прямо в пакетах. Мороки много было. Но дело пошло хорошо. За сезон я продавал купцам до десяти тысяч пудов одного меда. А воску сколько!
Моей работой заинтересовался в Петербурге профессор Кожевников. По его заданиям я вел на своей пасеке большую опытную работу. Потом по этому поводу и книжку написал. Ее напечатали. Из Петербурга ко мне на пасеку приезжал и сам Кожевников. 1
Как-то к моей пасеке подъехал фаэтон, а из него вышел не наших краев человек. Завидев меня, он спросил:
– Это пасека Ильи Емельяновича Семенова?
– Да, – отвечаю, его.
– А можно ли его видеть?
– Смотрите, – отвечаю, смотреть не возбраняется.
– А где же он? – спрашивает недоуменно профессор.
– А вот он я и есть, – отвечаю ему.
Вид у меня был непрезентабельный, и тогда меня всегда за работника Ильи Емельяновича принимали.
Познакомились. Прожил он у меня недели две, изучил мое дело. Все ему понравилось. Видимо понравился и я.
По планам профессора я, помимо прочего, стал заниматься племенной работой с пчелами. Хотя мой ученый руководитель жил в Петербурге, но мы часто переписывались, и наше племенное дело пошло хорошо, Как-то у меня получилось удачное скрещивание кавказской горной пчелы с местной пчелой. Я написал об этом профессору. Жду-жду, а ответа нет. Позже узнаю: в Петербурге революция. До нас эти вести шли долго. Потом и у нас стали появляться то белые, то красные. Что у них общего – все любят сладкое. Вначале в гости ездили, потом стали припугивать, что как будто я своими пчелами развожу контрреволюцию. А тут еще медведи откуда-то повадились, стали одолевать пасеку. Смотрел я, смотрел, и в одну ночь смотался, как говорят, в неизвестном направлении.
В конце концов очутился я у знакомых монголов в Монголии. Поймал супоросную сурчиху, дождался, пока она принесла пятерых сурчат – двух самочек и трех самцов. Мать с дочерьми я отпустил в горы, а с ребятами занялся, и вскоре у меня оказался такой же театр с борцами-акробатами, с какими я когда-то путешествовал по торговым дорогам. Одновременно я лечил скот у монголов, лечил и людей.
9. Беломорканал
Время шло. Мои артисты из малышей превратились в маститых сурков.
С родины доходили отрывочные сведения, что там налаживается мирная жизнь.
Как-то в том селе, где я жил, появился представитель советского скотимпорта. Он предложил мне поступить к ним заготовителем скота в Монголии. Это дело было мне знакомо, и я вскоре стал совторгслужащим. Работа была до смешного легкой. Теперь я уже не боялся конкурентов (территория Монголии была поделена между несколькими нашими советскими «купцами»); после того, как я приобретал у монголов скот и сдавал его, я больше уже не болел за его сохранность. Это не то, как было раньше. В ценах никто мне не мешал; конкурентов, как я уже сказал, не было. Не болела теперь у меня голова, как раньше, кому и как сбыть заготовленный скот. Работа была такой спокойной, что у меня даже животик стал отрастать, чего никогда прежде не было.
Разумеется, что каждый год я приезжал в родные края на побывку. Видел я, как из пепла гражданской войны народ действительно героически восстанавливал свое хозяйство. Дух мой радовался.
Но вот в начале тридцатых годов началось изничтожение того, что так успешно созидалось. Поголовье крупного рогатого скота, лошадей, овец в нашей стране стало катастрофически падать.
– Что бы это значило? – задавал я вопрос комиссарам, с которыми встречался.
– Такова, – говорили они, – политика партии.
Я не унимался. Как же это так, если все живое, на чем спокон веков жил наш народ, изничтожается? Что же это за политика, если из нашей страны, как крысы с тонущего корабля, повалили целыми толпами араты в Монголию, казахи в Китай? Тут что-то не то, тут кто-то вредит. Тут-то и меня пригласили соответствующие органы. Ты, говорят, заклятый антисоветчик. Тебя, говорят, надо крепко перевоспитать, чтобы ты понял, что к чему.
Дали десять лет и направили на строительство Беломоро-Балтийского канала.
Работы я никогда не боялся. Работа – благодать для человека. Страшное – тюрьма без работы, когда готов на себя руки наложить. Тогда я еще молод был: мне только за шестьдесят перевалило. Было там и жулье, а были и люди степенные, больше из ученых, инженеров. Много там полегло костьми. В моей бригаде (работал я там бригадиром) были профессора, был даже один академик. Всех их туда прислали, как и меня, на перевоспитание. Один профессор все рассказывал о строительстве Петром Первым Петербурга на костях крестьян и сравнивал то строительство со строительством Беломорканала. Он, как и многие «академики», там умер. Потом, когда настроили бараков, улучшилось питание, многие выжили, даже по окончании строительства досрочно ушли домой. Так я оставил Сталину неразменных целых пять лет.
10. Новосибирск
Явился я домой в Новосибирск. Туда приехал мой сын. У него жила и моя старуха.
Теперь я уже был перевоспитанный. В городе страшные очереди за хлебом, нет жиров, нет масла – я молчу. Если раньше хватали мелкоту, то теперь стали хватать крупных карасей, комиссаров в орденах – я молчу. Стал работать слесарем на одном заводе, и оттуда хватали людей. Производству, это, конечно, не на пользу, но я молчу. Стали хватать и молчаливых. О них стали говорить: «Раз молчат, значит, что-то втихаря замышляют».
В бараке жить надоело, решил построить себе домишко деревянный и тихо там пережить все эти времена. Скажу откровенно: я неплохой резчик по дереву. Нигде этому я не учился, так, самоучка. И вот решил я своей дурьей головой, хоть и перевоспитанной, украсить этот домик резьбой по старому русскому обычаю. Получился не дом, а как говорил один краевед, «произведение искусства». Повалили ко мне экскурсии. Пропечатали обо мне в газете, называли «народным умельцем», искусным художником.
11. Повторно 10 лет
А на деле вышло, что меня не перевоспитали. И зачем мне было резьбой заниматься – вопрос, который я задаю и сейчас. На это художество обратили внимание в другом месте и вызвали.
– Вы Илья Емельянович Семенов?
– Да, – говорю, – я, сын собственных родителей.
– А это, – говорят, – вы были осуждены в свое время и отбывали срок наказания? – и достают знакомое мое старое дело с надписью «Хранить вечно».
– Да, – говорю, – я. Но позвольте, – говорю, – за ударное участие в строительстве Беломоро-Балтийского канала имени Сталина я был досрочно освобожден.
– Это, – говорят, – нам известно. Но оно нас не интересует. Нас интересует ваша теперешняя личность. Мы вас решили задержать.
– Как, – задержать? Я трудящийся, работаю слесарем на заводе, по большим праздникам получаю от администрации благодарности за перевыполнение…
– А это, – перебил следователь, – нам известная теперешняя тактика наших потенциальных врагов до времени выступать даже стахановцами, чтобы потом всадить нож в спину революции.
Таких «врагов революции» набиралось много и, чтобы хоть как-то придать приговорам юридический смысл, в Кремле придумали особое совещание при Министре внутренних дел. Это совещание юридически не трудилось обосновывать свои решения, а просто давало той или иной жертве срок: десять лет.
Получалось совсем по Крылову: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
12. В «столярке»
Когда мне перевалило за семьдесят, меня решили списать. Что из этого получилось, я уже вам рассказывал. За возрастом меня направили в эту самую инвалидную колонию, как в последний жизненный этап. Отсюда этапируют уж только на погост.
В колонии я стал иметь право не работать и получать 550 грамм серого хлеба и общую баланду. Вот до чего я дослужился. На воле, небось, грамма тебе не дадут без денег, а тут:
– Илья Емельянович. Пайку хлеба получай, баланду, пожалуйста.
Но, как вы знаете, без дела я не могу сидеть. В нашей колонии ведущим считается мебельный. Он дает наибольшие капиталы в нашу кассу. Вот начальник колонии и просит меня возглавить этот цех.
– Ты, – говорят, – ничего не делай. Только сиди и смотри, чтобы было так, как надо.
Пьяницей я никогда не был, а рюмочку выпить перед обедом – мой закон. Без нее и обед не обед. Вот я и говорю начальнику:
– Ладно. Согласен, поработать на благо колонии. Только скажи своим архарам (так Илья Емельянович называл надзирателей), чтобы они не отнимали водку, которую проносят мне люди с воли. Перед обедом я должен рюмочку проглотить. Тогда и работа будет спориться.
Он согласился, и вот четыре года я вправляю мозги своим столярам. Выговорил я еще у начальника второе условие, чтобы в ночную смену меня никто не тревожил. Я люблю выспаться.
Это условие тоже, слава богу, выполняется. Хорошо в цеху, когда работа налажена, когда каждый знает свое место и свое дело. Да вот беда: ты его научишь, надеешься на него, а у него вдруг пришел к концу срок. Нужно готовить новых.
Я сам видел, как Илья Емельянович обучал новеньких, в арестантских формулярах которых значилось, что они по специальности плотники, а то даже и столяры. Строг был к ним заведующий мебельным цехом страшно.
– А ты как к верстаку подошел? – вдруг наскакивал он на новичка с вопросом, или:
– А как инструмент держишь? Ты что, калека?
Он слезал с помоста, находившегося посредине цеха, откуда он мог наблюдать за работой мастеров, брал у новичка инструмент, показывал, как подойти, как пользоваться. И случалось так, что в течение смены он не отходил от верстака, работая, как мастер.
Но тот, кто прошел учебу у Ильи Емельяновича, видимо, на всю жизнь становился первоклассным столяром.
Уставал Илья Емельянович после каждой смены ужасно. Но чарка водки, хороший сон – и он снова готов к работе.
Много физических усилий отнимали у него разные побочные, неплановые заказы на мебель многочисленного начальства. Писать работу на них в табелях выработки заключенных нельзя было. Поэтому всю эту работу выполнял своими руками сам завцехом, чтобы не снизить законную выработку, так как от нее определялась величина хлебного пайка и прочего приварка. А за сносное питание работников своего цеха Илья Емельянович всегда боролся.
– Голодный человек – не работник, – говорил Илья Емельянович.
13. Гробы делать готов всегда
Кончился март. А на дворе все еще стояли сибирские морозы. Цеха колонии отапливались, а бараки, за исключением «стахановского», – нет. Люди ночами страшно мерзли, очень ждали своей смены, чтобы на работе отогреться. После утренней поверки к баракам подъезжали громадные воловьи сани, и оттуда выносили и грузили окоченевших за ночь заключенных. Потом подвозили к санчасти. Оттуда выходил врач для проверки, проверял у некоторых пульс – так, на случай, чтобы не сбежал какой-нибудь преступник, и после этого уже сани выезжали из зоны. Трупы где-то штабелевали до того времени, как подтает земля, и тогда хоронили.
Сегодня не Илья Емельянович рассказывал, а я слушал. Было наоборот, я рассказывал. В тот день умер возчик теплицы. Я с ним встречался еще в карантинной камере общей тюрьмы. Он имел небольшой срок и ждал отправки на работу в лагерь. Поэтому расспрашивал бывалых заключенных об условиях лагерной жизни.
– Я бывший шахтер. Работы не боюсь, – говорил он. – Самая высокая пайка хлеба в 950 грамм мне всегда будет обеспечена.
И я, всю жизнь, сидевший за книгами, теперь завидовал физической силе моего собрата по заключению. Его забрали первым. Куда, в какой лагерь, нам не говорили. Но вот, наконец, и я в лагере. К своему удивлению, там же я встретил своего шахтера.
– Ну, как дела? Как с работой? – стал расспрашивать я его. Оказалось, что дела у него совсем плохи: как ни работай, а бригадир запишет столько, сколько у него останется произведенной работы, приписанной его друзьям. Оказывается, здесь хлеб получают не по труду, а по тому, как на тебя посмотрит бригадир.
Чтобы избавить товарища от такой несправедливости, я взял его возчиком в теплицу.
– Пара волов, сани, возка дров к теплице, вывозка удобрений на поля, и ежедневно будешь обеспечен 950 граммами хлеба, общим и больничным приварком. Больше уже никто ни на какой работе не получает, – сказал я ему. Он с радостью согласился и приступил к работе. Но к тому времени он физически сильно ослаб. Было очень холодно: днем он на холоде, а ночью в холодном бараке. В конце концов он слег и вскоре умер.
Вот об этом я и рассказывал Илье Емельяновичу. Вскоре, несмотря на позднее время, дверь нашей комнаты открылась, и в ней показалась голова надзирателя. Он позвал к себе Илью Емельяновича. Случай чрезвычайный: никогда его в ночное время не вызывали.
Вскоре он вернулся из сеней и стал поспешно у вешалки одеваться. Потом подошел ко мне и попросил подать ему из его изголовья крючковатую палку, с которой он никогда не расставался. Я подал ему ее и спросил:
– — Что это вы, Илья Емельянович, сами нарушаете свое правило: в ночную смену никогда не ходить?
Он нагнулся к моему уху и прошептал:
– Иду гроб делать. Умер старший надзиратель Моськин.
Потом, улыбаясь, подмигнул мне и добавил:
– Гробы им я готов делать целые ночи, – и вышел.
14. Шахматист
На следующий день Илья Емельянович был в хорошем настроении – видимо, по случаю смерти надзирателя Моськина. Даже удивительно было, как может смерть вызывать чувство удовлетворения.
Оказалось, что Илья Емельянович давно знает этого Моськина, и вот что он о нем рассказал. Этот Моськин был типичный паразит, безжалостно сосавший кровь заключенных. Худой, высокий, он так и высматривал, что отобрать у узника. Он не брезговал ничем и тащил из колонии к себе домой все – от продуктов, передаваемых с воли родственниками заключенных, до вещей.
В зоне у него работали урки. Стащат чего-нибудь – и Моськину в надзирательскую. Хозяин вещи побегает да и успокоится, а вещь перейдет на квартиру к Моськину, и жена его все сбудет на рынке.
– Никчемный был человек, – закончил о нем Илья Емельянович. – Умер и ничуть не жалко.
И по этому случаю он предложил мне сыграть в шахматы. Игру в шахматы Илья Емельянович любил, увлекался этой игрой, и шахматист был чудесный. Несколько партий сыграли мы, и я каждый раз торопился и проигрывал ему. Когда же заметил, что он решил сознательно проиграть мне, я отказался играть, сославшись на усталость.
15. Прощание
Шла весна 1945 года. 9 мая, день Победы, в колонии отметили радостно. Все ждали большой амнистии. Один Илья Емельянович не ждал ее и даже, как я заметил, он не жаждал свободы:
– Тут спокойнее, – говорил он. – Хорошо уже то, что тебя снова не посадят.
Радовался он, что на меня послали ходатайство о моем расконвоировании.
– Хорошо это. Срок у тебя большой. Под ружьем тяжело. А так будешь вроде вольнонаемного. Только без семьи.
Но Алма-Ата на запрос ответила отрицательно, и начальство мое стало относиться ко мне по-иному: конвойный я им не нужен.
Вскоре в июне мне вдруг объявили: «Собирайся на этап!» Сборы коротки. Пока не закрыли где-нибудь на замок, я сбегал к Илье Емельяновичу. Он не ожидал такой развязки. Долго разговаривать было некогда. Мы в слезах обнялись и потом расстались, чтобы уже никогда не встретиться на этой бренной земле.
Март 1970 годаЭкзамен
1. Лагерная лесозаготовительная
командировка
Лагерное население в Илийской котловине в 40-х годах нашего столетия быстро увеличивалось. Если до войны здесь был один лагерь с тысячью гектарами сельскохозяйственных угодий, то во время войны был организован целый Илийский лаграйон, простиравший свои владения на сотни тысяч гектаров.
Находились тогда шутники, которые, рискуя своей свободой, шептали:
– Есть теперь Илийский лаграйон, потом будет Алма-Атинская лагобласть, потом… – дальше они не договаривали.
Все жилые здания этих лагерей были примитивны: стены саманные, крыши по камышу крытые землей. Необходимы были новые бараки, квартиры для обслуживающего персонала, хозяйственные постройки, но строительство задерживалось из-за отсутствия лесоматериала.
В Алма-Атинской области есть чудесные еловые леса, расположенные на северных склонах Заилийского Ала-Тау на головокружительной высоте, около двух тысяч метров над уровнем моря. Высоко.
Поглядывая на темнеющие в высоте лесные массивы, говорили наши хозяйственники:
– Видит око, да зуб неймет.
Лесоматериал до войны завозили из Сибири по железной дороге. Но шла война, железные дороги были загружены. Нужно было добывать лес на месте. С этой целью министерство внутренних дел Казахской республики через соответствующие органы заполучило лесной участок в верховьях реки Чилик и начало его эксплуатировать.
Оно организовало там, через Илийский лаграйон, соответствующую командировку на полторы-две сотни заключенных. По козьим тропам пешим ходом туда была доставлена первая партия лесорубов. Но как доставить на эту верхотуру вещи, одежду, продукты питания, инструменты? Эту задачу долго решали и разрешили: в соседних колхозах были приобретены горные лошади, и потом вьюком все необходимое доставлялось к месту назначения.
2. Лесосплав на реке Чиличке
в сезон 1945 года
В течение зимы самым примитивным способом древесина заготавливалась, спускалась с гор к местам предполагаемого сплава. А весной, когда начинался паводок, бревна россыпью валили в реку, и они должны были плыть до низовьев этой же реки. А там, у искусственной запони, из россыпи должны сплачиваться плоты и уже по большой реке Или направляться к потребителю, Илийскому лаграйону.
Но вся беда в том, что самосплавом громадные, более полуметра в комеле деревья никак не хотели двигаться, потому что все ложе реки, за редким исключением, усеяно огромными завалами камней, сбрасываемыми с горной верхотуры вниз частыми здесь землетрясениями. Падение воды в реке очень крутое (до 40 метров на километр). По свободной воде деревья мчатся с большой скоростью. Но вот первому бревну камень преградил путь. Оно прижалось к нему. К этому бревну липнет следующее и так далее. Так образуются заторы, часто из нескольких сот бревен. Некоторые деревья направляются не по главному фарватеру реки, а проникают в боковые протоки и прячутся там, прикрываясь богатой растительностью: камышами, облепихой, боярышником.
Чтобы одна тысяча двести кубометров древесины (столько заготовили за зиму) двигалась вниз по реке, администрация лагеря направила по обоим берегам реки две независимые бригады.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Работы профессора Григория Александровича Кожевникова (1866—1933) об инстинктах и эволюции медоносных пчел продолжают считаться непревзойденными в мировой пчеловодческой литературе.

