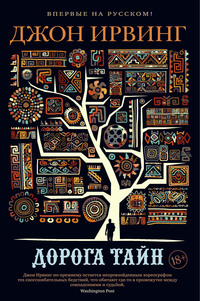Полная версия
Молитва об Оуэне Мини
Только Оуэн Мини мог заставить мою маму покраснеть.
– Я ношу эту блузку и эту юбку уже сто лет, – говорила она. – Но ни разу не догадалась надеть их вместе с этим поясом! Ты просто гений, Оуэн!
– НО ВЕДЬ НА ВАС ЛЮБАЯ ВЕЩЬ СМОТРИТСЯ ХОРОШО! – отвечал ей Оуэн, и она краснела.
Чтобы не льстить в открытую, можно было бы просто заметить, что мою маму, как и манекен, наряжать легко, потому что все вещи у нее или черные, или белые: всё со всем сочетается.
Было у нее еще, правда, одно красное платье, и мы никак не могли уговорить маму носить его. Вообще-то оно никогда и не предназначалось для носки, но я был уверен, что уилрайтовская бережливость не позволит маме отдать его кому-нибудь или выбросить. Она увидела это платье в каком-то шикарном бостонском магазине; ей понравился плотный эластичный материал, понравился глубокий вырез на спине, понравился узкий приталенный верх и широкая юбка – все, кроме цвета. Такой цвет мама терпеть не могла – ярко-алый, как листья пуансеттии на Рождество. Она собиралась, как всегда, воспроизвести его в черном или белом варианте; но до того ей понравился покрой, что она сшила даже два платья – и черное, и белое. «Белое – на лето, под загар, – сказала мама. – А черное – для зимы».
Приехав в Бостон, чтобы вернуть красное платье, мама, по ее словам, обнаружила, что магазин сгорел дотла. Она никак не могла припомнить его названия, но потом выяснила у жителей соседних домов и отправила по бывшему адресу письмо. У владельцев магазина оказались какие-то проблемы со страховкой, и прошло несколько месяцев, прежде чем маме удалось переговорить с представителем магазина, да и тот оказался всего лишь их юристом. «Но я ведь не заплатила за это платье! – объясняла мама. – Оно очень дорогое, я хотела примерить его дома и присмотреться как следует. Оно мне не понравилось, и я не хочу, чтобы мне через пару месяцев прислали счет. Оно очень дорогое», – повторила она, но юрист ответил, что теперь это уже не имеет значения. Все сгорело. Счета сгорели. Инвентарные описи сгорели. Все товары сгорели. «Телефон расплавился, – сказал юрист. – И кассовый аппарат расплавился, – добавил он. – Им теперь не до платья. Оно теперь ваше. Считайте, что вам повезло», – произнес он таким тоном, что мама почувствовала себя виноватой.
– Боже милостивый, – сказала потом бабушка, – как легко заставить нас, Уилрайтов, почувствовать себя виноватыми. Возьми себя в руки, Табита, и перестань расстраиваться. Платье очень милое и цвет – как раз для Рождества. Оно будет прекрасно смотреться, – решила бабушка.
Но я не видел, чтобы мама хоть раз вынула это платье из шкафа; после того как она его скопировала, только Оуэн иногда наряжал в него манекен. И даже он не сумел заставить маму полюбить красное платье.
– Может, у него цвет и подходит для Рождества, – говорила она. – Вот только мой цвет к этому платью совсем не подходит – особенно в Рождество.
Она имела в виду, что без загара выглядит в красном слишком бледной; но, спрашивается, кто во всем Нью-Гэмпшире может на Рождество похвастаться загаром?
– НУ, ТОГДА НОСИТЕ ЕГО ЛЕТОМ! – предложил Оуэн.
Но носить такой кричащий цвет летом – значило, по мнению мамы, уж совсем откровенно выставлять себя напоказ; к тому же он требует более темного загара. Дэн предложил пожертвовать красное платье для его убогой коллекции сценических костюмов. Но мама решила, что это будет пустым расточительством, к тому же ни у кого из ребят в Грейвсендской академии и уж точно ни у одной женщины в нашем городе не было фигуры, достойной такого платья.
Дэн Нидэм не только взял на себя постановку пьес силами ребят Академии, он еще и возродил жалкий любительский театр нашего городка, который назывался «Грейвсендские подмостки». Дэн приглашал в труппу театра всех желающих, и благодаря его уговорам половина преподавателей Академии обнаружили в себе страсть к сценической игре; а еще он сумел разбудить артиста в каждом втором горожанине. Ему даже удалось уговорить мою маму сыграть главную роль – правда, только один раз.
Насколько мама любила петь, настолько же она стеснялась играть на сцене. Она согласилась участвовать лишь в одной пьесе, поставленной Дэном, и, я думаю, ее согласие было просто жестом доброй воли в их продолжительных взаимных ухаживаниях, и то при условии, что Дэн будет играть в паре с ней – если он тоже сыграет главную роль и если это не роль ее любовника. Она не хочет, чтобы в городе выдумывали всякие небылицы насчет их романа, сказала мама. После свадьбы мама больше ни разу не вышла на сцену, как, впрочем, и Дэн. Он ставил пьесы, она суфлировала. У мамы был самый подходящий голос для суфлера – тихий, но отчетливый. Я думаю, все это благодаря урокам пения.
Ее единственная и притом звездная роль была в «Улице Ангела». Это все происходило так давно, что я уже не помню ни имен персонажей, ни декораций. Труппа «Грейвсендских подмостков» играла в здании городского совета, и о декорациях там никогда особо не заботились. Что я помню, так это фильм, снятый по мотивам «Улицы Ангела»; он назывался «Газовый свет», и я смотрел его несколько раз. У мамы была роль, которую в кино исполняла Ингрид Бергман; это жена, которую подлый муженек доводит своими гнусными выходками до умопомешательства. Негодяя играл Дэн – в фильме это персонаж Шарля Буайе. Если вы знакомы с пьесой, то должны помнить, что, хотя Дэн с мамой по сюжету муж и жена, нежных чувств друг к другу они явно не питают; вообще это был единственный раз, когда я видел, чтобы Дэн измывался над мамой.
Дэн говорит, что в Грейвсенде некоторые до сих пор «косо смотрят на него» – и все из-за той роли, из-за персонажа Буайе. Косятся на него, будто это он давным-давно убил маму бейсбольным мячом, – причем умышленно.
Лишь однажды в этой постановке – вернее, на генеральной репетиции, когда актеры выступают уже в сценических костюмах, – мама надела красное платье. По-моему, в той самой сцене, где они с этим ужасным мужем вечером собираются в театр (или куда-то еще); она уже полностью оделась, а он спрятал свою картину и обвиняет жену, будто это она ее спрятала, – покуда та сама не начинает в это верить, – после чего прогоняет ее в комнату и больше не выпускает. А может, в другой сцене, когда они идут на концерт и муж находит у нее в сумочке свои часы – он сам их туда положил, – а теперь он доводит жену до слез и заставляет умолять ей поверить, и все – на глазах у снобов из высшего общества. В любом случае предполагалось, что мама наденет свое красное платье только в одной сцене, и это была единственная сцена во всей пьесе, где она играла из рук вон плохо. Она никак не могла оставить платье в покое – то и дело обирала с него воображаемые пушинки и ниточки, все время озабоченно оглядывала себя, словно опасаясь, вдруг разрез на спине разойдется до низа, и постоянно поеживалась, словно ткань раздражала ее кожу.
Мы с Оуэном ходили на каждое представление «Улицы Ангела». Вообще мы смотрели все постановки Дэна – и пьесы, которые он ставил в Академии, и спектакли любительской труппы «Грейвсендских подмостков», – но «Улица Ангела» была одной из немногих пьес, которую мы смотрели столько раз, сколько ее показывали. Видеть мою маму на сцене, видеть, как Дэн издевается над ней, – нас завораживала эта ложь! Дело не в пьесе, а именно в этой лжи: Дэн издевается над моей мамой, Дэн подстраивает ей всякие пакости. Это захватывало невероятно!
Мы с Оуэном хорошо знали всю труппу Грейвсенда. Миссис Ходдл, эта мегера из нашей епископальной воскресной школы, играла в «Улице Ангела» характерную роль – распутную служанку Анджелу Лэнсбери, – можете вообразить? Мы с Оуэном так и не смогли. Миссис Ходдл играет шлюху! Миссис Ходдл – и вульгарность! Мы не могли отделаться от ощущения, что она вот-вот крикнет: «Оуэн Мини, спустись оттуда немедленно! Сейчас же вернись на свое место!» Вдобавок ко всему на ней был костюм французской служанки с очень узкой юбкой и черными узорчатыми чулками, так что потом в воскресной школе мы с Оуэном все время безуспешно пытались разглядеть ее ноги – увидев их впервые, мы поразились; но еще больше мы поразились тому, что они у нее очень даже ничего!
Роль положительного героя «Улицы Ангела» – Джозефа Коттена – досталась нашему соседу, мистеру Фишу. Мы с Оуэном знали, что он все еще пребывает в трауре после безвременной кончины своего Сагамора; весь ужас роковой встречи пса и злополучного грузовика на Центральной улице до сих пор сквозил во взгляде мистера Фиша, и этим страдальческим взглядом он сопровождал каждый шаг моей мамы на сцене. Мистер Фиш не вполне отвечал нашему с Оуэном представлению о герое; однако Дэн Нидэм, с его талантом подбирать и дотягивать до приемлемого уровня даже самых безнадежных любителей, решил, должно быть, задействовать в пьесе скорбь и негодование нашего соседа.
В общем, после генеральной репетиции «Улицы Ангела» красное платье снова перекочевало в шкаф – навсегда, не считая тех частых случаев, когда Оуэн облачал в него манекен. Мамину неприязнь к платью Оуэн, похоже, воспринимал как вызов: на манекене оно всегда смотрелось потрясающе.
Я рассказываю все это лишь затем, чтобы показать, что Оуэн почти так же привык к манекену, как и я; однако он не привык видеть его ночью. Ему не был знаком этот полусвет-полумрак в маминой комнате, когда она спала и рядом с ее кроватью стоял манекен – эта безошибочно узнаваемая фигура, этот совершенный силуэт. Тихий и неподвижный, словно он считал мамины вдохи и выдохи.
Однажды, когда Оуэн ночевал у меня в комнате в доме на Центральной, мы очень долго не могли уснуть: из противоположного конца коридора постоянно доносился кашель Лидии. Всякий раз, как мы думали, что она наконец справилась с очередным приступом – или уже умерла, – все начиналось снова. Едва я провалился в глубокий сон, как Оуэн растолкал меня; я не мог пошевелить даже пальцем, словно лежал в мягком, страшно удобном гробу, который медленно опускали в яму, несмотря на все мои старания восстать из мертвых.
– МНЕ ЧТО-ТО ПЛОХО, – сказал Оуэн.
– Тебя тошнит? – спросил я его, по-прежнему не в силах пошевелиться; я не мог даже открыть глаз.
– НЕ ПОЙМУ ПОКА, – отозвался он. – ПО-МОЕМУ, У МЕНЯ ТЕМПЕРАТУРА.
– Поди скажи моей маме, – предложил я.
– МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО КАКАЯ-ТО РЕДКАЯ БОЛЕЗНЬ, – сказал Оуэн.
– Поди скажи моей маме, – повторил я.
Я услышал, как он стукнулся в темноте о стул, потом открылась и закрылась дверь моей комнаты. Затем я услышал, как он шарит руками по стене коридора. Потом он остановился у двери в мамину спальню, и мне послышалось, как его рука дрожит на дверной ручке; так он стоял, кажется, целую вечность.
Потом я подумал: он же наверняка забыл, что там стоит манекен. Хотелось крикнуть: «Смотри не испугайся манекена, он по ночам чудно выглядит!» Но я все лежал в своем сонном гробу, и рот мой словно залепили пластырем. Я ждал, что Оуэн закричит. Конечно же, именно так все и случится; вот сейчас раздастся душераздирающий вопль: «ААААААААААА!» – и весь дом потом еще долго не сможет уснуть. А может, в порыве геройства Оуэн набросится на манекен и свалит его на пол.
Я рисовал себе картину за картиной и не сразу понял, что Оуэн уже вернулся в комнату, стоит возле моей кровати и дергает меня за волосы.
– ПРОСНИСЬ! ТОЛЬКО ТИХО! – шептал он. – ТВОЯ МАМА НЕ ОДНА. У НЕЕ В КОМНАТЕ КТО-ТО ЧУЖОЙ. ПОШЛИ, САМ УВИДИШЬ! ПО-МОЕМУ, ЭТО АНГЕЛ!
– Ангел? – переспросил я.
– Т-Ш-Ш!
Вот теперь у меня сна не было ни в одном глазу; до того хотелось посмотреть, как он останется в дураках, что я не стал ничего говорить про манекен. Я взял его за руку, и мы пошли по коридору в комнату к маме. Оуэн весь дрожал как осиновый лист.
– С чего ты взял, что это ангел? – прошептал я.
– Т-Ш-Ш!
Итак, мы бесшумно проскользнули в мамину комнату и поползли на животах, словно снайперы в поисках надежного укрытия, пока перед нами не открылась полная картина: в постели мама, свернувшаяся вопросительным знаком, и нависший над ней манекен.
Спустя некоторое время Оуэн сказал:
– ОН ИСЧЕЗ. НАВЕРНОЕ, УВИДЕЛ МЕНЯ, КОГДА Я ПРИХОДИЛ В ПЕРВЫЙ РАЗ.
Я невинно указал пальцем на манекен и прошептал:
– А это что?
– ИДИОТ, ЭТО ЖЕ МАНЕКЕН! – ответил Оуэн. – АНГЕЛ БЫЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КРОВАТИ.
Я потрогал ему лоб: он весь горел.
– У тебя температура, Оуэн, – сказал я.
– Я ВИДЕЛ АНГЕЛА, – сказал он.
– Это вы, ребята? – раздался мамин сонный голос.
– У Оуэна температура, – сказал я. – Он плохо себя чувствует.
– Иди сюда, Оуэн, – сказала мама и села в постели.
Он подошел к ней, и она потрогала его лоб, потом велела мне принести аспирин и стакан воды.
– Оуэн видел ангела, – сказал я.
– Тебе приснилось что-то страшное, Оуэн? – спросила мама, а он тем временем заполз к ней и лег рядом.
Потом из подушек донесся его приглушенный голос:
– НЕ СОВСЕМ.
Когда я вернулся со стаканом и аспирином, мама уже снова уснула, приобняв Оуэна, который, со своими распластавшимися по подушке ушами и маминой рукой, поперек его груди, был похож на бабочку, пойманную кошкой. Он ухитрился проглотить аспирин и запить его водой, не потревожив маму, и отдал мне стакан со стоическим выражением лица.
– Я ОСТАЮСЬ ЗДЕСЬ, – отважно прошептал он. – НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ОН ВЕРНЕТСЯ.
Он выглядел до того нелепо, что я не мог спокойно на него смотреть.
– Мне показалось, ты что-то говорил про ангела, – прошептал я. – Что плохого может сделать ангел?
– Я ЖЕ НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ ЭТО БЫЛ АНГЕЛ, – ответил он, и мама пошевелилась во сне; она крепче обняла Оуэна, чем, видимо, одновременно и напугала его, и взволновала.
Я побрел в свою комнату один.
Из какого такого вздора Оуэн Мини вывел то, что он позже назовет ПРОМЫСЛОМ? Из своего лихорадочного воображения? Многие годы спустя, когда он упомянул о ТОМ РОКОВОМ БЕЙСБОЛЕ, я поправил его, может быть, чересчур поспешно.
– Ты хотел сказать – о том несчастном случае, – сказал я.
Он приходил в ярость, когда я называл что-либо «случаем» – особенно то, что происходит с ним. Когда разговор заходил о предзнаменованиях, Оуэн Мини всякий раз уличал Кальвина в недостатке веры. Ибо случайностей не бывает; и у того бейсбола тоже был свой смысл – как есть смысл в том, что сам он, Оуэн, такой маленький, и в том, что у него такой голос. Оуэн не сомневался: он тогда ПОМЕШАЛ АНГЕЛУ, он ПОТРЕВОЖИЛ АНГЕЛА, КОГДА ТОТ ВЫПОЛНЯЛ СВОЮ РАБОТУ, он НЕ ДАЛ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ ПРОМЫСЛУ.
Теперь я понимаю: Оуэн и в мыслях не держал, что увидел тогда ангела-хранителя; он был вполне убежден, особенно после того РОКОВОГО БЕЙСБОЛА, что помешал Ангелу Смерти. И хотя мой друг не стал тогда посвящать меня в сюжет этой Божественной Повести, я знаю, он был уверен именно в этом: он, Оуэн Мини, помешал Ангелу Смерти осуществить священную миссию, и тот перепоручил ее, возложив на плечи Оуэна. Откуда только взялись столь чудовищные и столь убедительные для него самого фантазии?
Мама была слишком сонной, чтобы измерить ему температуру, но его лихорадило, это точно, и лихорадка привела его в постель к моей маме, прямо в ее объятия. И не вызванное ли этим лихорадочное волнение – не говоря уже о температуре – придало ему решимости не смыкать всю ночь глаз и быть готовым к приходу очередного незваного гостя – будь то ангел, привидение или кто-нибудь из незадачливых домочадцев? Думаю, именно так.
Несколько часов спустя комнату моей мамы посетило другое жуткое видение. Я говорю «жуткое» потому, что Оуэн тогда побаивался моей бабушки; он, верно, чувствовал ее неприязнь к гранитному бизнесу. Я забыл погасить в маминой ванной свет и оставил открытой дверь в коридор; но хуже того, я не закрыл до конца кран, когда набирал Оуэну холодную воду, чтоб он выпил аспирин. Бабушка всегда уверяла, будто слышит, как электрический счетчик отмеривает каждый киловатт; когда наступали сумерки, она ходила за мамой по пятам и то и дело выключала за ней свет. А в ту ночь бабушка не только почувствовала, что где-то оставили включенным свет, но еще и услышала, что где-то оставили открытым кран, – может, в подвале загудел насос, а может, просто было слышно, как журчит вода в раковине. Обнаружив в ванной столь вопиющее безобразие, бабушка тут же ринулась к маме в спальню – то ли забеспокоилась, не заболела ли мама, то ли, возмущенная такой легкомысленной расточительностью, решила выговорить дочери за небрежность, пусть даже для этого придется ее разбудить.
Все могло обойтись тем, что бабушка закрыла бы воду, погасила свет и вернулась к себе спать, но по ошибке она повернула холодный кран не в ту сторону – резко открыв его, она обрызгала себя ледяной водой, – ведь кран работал уже не первый час. Ночная сорочка тут же промокла, и бабушка поняла, что вдобавок ко всему придется переодеваться. Возможно, именно это заставило ее разбудить маму: мало того что электричество и вода тратятся зря – так и ее, бабушку, облили, стоило ей попытаться прекратить разбазаривание. Несложно догадаться, что по дороге к маме в комнату бабушка растеряла остатки терпения. И хотя Оуэн был готов к пришествию ангела, пожалуй, даже Ангелу Смерти, по его понятиям, не подобало являться так шумно.
В своей ночной рубашке, обычно просторной, а сейчас мокрой насквозь и потому облепившей сухощавое сгорбленное тело, с накрученными на бигуди волосами, с лицом мертвенно-белым под толстым слоем крема, бабушка с грохотом вломилась в комнату. Оуэн лишь спустя несколько дней смог рассказать мне, что ему тогда пришло в голову: если ты спугнул Ангела Смерти, Божественный промысел прибегает к помощи таких ангелов, которых уже ничем не спугнешь; они могут даже обращаться по имени.
– Табита! – раздался грозный бабушкин голос.
– А-А-А!
Оуэн Мини заорал так истошно, что бабушка потом еще долго хватала ртом воздух. Она увидела, как из маминой постели, словно подброшенный катапультой, выскочил маленький демон – выскочил с такой внезапной и необъяснимой силой, что бабушке показалось, это крохотное создание сейчас взлетит. Мама рядом с ним тоже словно парила в воздухе. Лидия, чьи ноги тогда еще были на месте, выпрыгнула из кровати и с разбегу налетела на платяной шкаф; потом еще несколько дней она всем демонстрировала свой разбитый нос. Сагамор, которому до встречи с грузовиком из конторы по прокату пеленок оставалось уже совсем немного, разбудил своим лаем мистера Фиша. По всей округе загремели крышки мусорных баков – Оуэн Мини распугал местных котов с енотами, и они бросились кто куда. В добром десятке домов Грейвсенда заворочались в своих кроватях испуганные обыватели, решив спросонок, что, верно, Ангел Смерти все же пришел по чью-то душу.
– Табита, – сказала бабушка маме на следующий день. – По-моему, это в высшей степени странно и неприлично – позволять этому дьяволенку спать в своей постели.
– У него была температура, – отозвалась мама. – И к тому же я была слишком сонная.
– У него явно кое-что посерьезнее, чем температура, притом все время, – заметила бабушка. – Он говорит и ведет себя будто одержимый.
– Ты у всех найдешь недостатки, – ответила мама.
– Оуэну показалось, что он видел ангела, – объяснил я бабушке.
– Ему показалось, что я – ангел? – удивилась бабушка. – Я же говорю, одержимый.
– Оуэн сам ангел, – сказала мама.
– Ничего подобного, – ответила бабушка. – Он мышь. Гранитная Мышь!
На другой день, увидев нас с Оуэном на велосипедах, мистер Фиш махнул рукой, подзывая нас. Он делал вид, что прилаживает к забору расшатавшуюся штакетину, хотя на самом деле просто наблюдал за нашим домом и ждал, пока кто-нибудь выйдет на улицу.
– Привет, ребята! – крикнул он. – Слышали, какой тарарам тут был прошлой ночью?
Оуэн неопределенно помотал головой.
– Я слышал, как лаял Сагамор, – сказал я.
– Нет-нет – еще до того! – возразил мистер Фиш. – Вы разве не слышали, отчего он залаял? Такой крик! Такой гвалт! Ну и ну! Настоящий тарарам!
Дело в том, что бабушка тогда, едва переведя дух, тоже закричала, и Лидия, столкнувшись с платяным шкафом, не замедлила к ней присоединиться. Оуэн потом сказал, что бабушка ВЗВЫЛА, КАК БАНШИ, хотя на самом деле ее крик не шел ни в какое сравнение с воплем самого Оуэна.
– Оуэну показалось, что он увидел ангела, – пояснил я мистеру Фишу.
– Видимо, это был не очень добрый ангел, Оуэн, а? – заметил мистер Фиш.
– ВООБЩЕ-ТО НА САМОМ ДЕЛЕ Я ПРИНЯЛ МИССИС УИЛРАЙТ ЗА ПРИВИДЕНИЕ, – признался Оуэн.
– А-а-а, ну тогда все совершенно ясно! – сочувственно протянул мистер Фиш; он боялся бабушки не меньше Оуэна – по крайней мере, когда разговор заходил о муниципальных правилах районирования или о дорожном движении на Центральной улице, он всегда старался ей поддакивать.
Странное выражение – «тогда все совершенно ясно!». Теперь я знаю: ничего нельзя считать совершенно ясным.
Потом я, конечно, расскажу все это Дэну Нидэму, среди прочего и о том, что Оуэн решил, будто помешал Ангелу Смерти и поэтому миссия ангела легла на его, Оуэна, плечи.
Я тогда не придал значения тому, сколь точно Оуэн выражается, – той буквальности, что вообще-то не очень свойственна детям. Он потом еще много лет не раз повторит эту фразу: «В ЖИЗНИ НЕ ЗАБУДУ, КАК ТВОЯ БАБУШКА ВЗВЫЛА, БУДТО БАНШИ». Но я не обратил на это слово особого внимания; я что-то не помню, чтобы бабушка так уж сильно кричала, – что я запомнил, так это вопль самого Оуэна. К тому же я тогда подумал, что «ВЗВЫЛА, БУДТО БАНШИ», – это просто образное выражение; я не мог представить себе, чтобы Оуэн придал бабушкиному крику какое-то особое значение. Должно быть, я все-таки повторил тогда Дэну Нидэму эти слова Оуэна, потому что однажды, много лет спустя, Дэн спросил меня:
– Ты говорил, Оуэн назвал твою бабушку «плачущей БАНШИ»?
– Он сказал, что она «взвыла, будто банши».
После этого Дэн достал с полки словарь; он долго цокал языком, покачивал головой и улыбался сам себе, приговаривая: «Ну парень! Ну парень! Умница – но с вывертом!» Вот тогда-то я и узнал, что означает «банши» в буквальном смысле. В ирландском фольклоре так называется женщина-призрак, своим душераздирающим воем предвещающая скорую смерть кого-то из близких.
Дэн Нидэм был, как всегда, прав: «умница, но с вывертом» – это очень меткое определение Гранитного Мышонка. Именно такой, по моему мнению, и был Оуэн Мини: «умница, но с вывертом». А с годами выяснится – как вы еще убедитесь, – что никакой это не выверт.
В нашем городе все – а в особенности мы, Уилрайты, – удивлялись, до чего это на маму не похоже – четыре года встречаться с Дэном Нидэмом, прежде чем согласиться выйти за него замуж. Как говаривала тетя Марта, и пяти минут мама не раздумывала, когда «согрешила» с незнакомцем из поезда, что привело к моему появлению на свет! Но, возможно, в том-то все и дело: если родные, вместе со всем Грейвсендом, и питали большие сомнения насчет маминой нравственности – насчет того, что слишком уж легко, как казалось, ее можно склонить к чему угодно, – то продолжительные ухаживания Дэна Нидэма за моей мамой заставили всех кое-что понять. Было ведь очевидно с самого начала, что мама и Дэн влюблены друг в друга. Он был предан ей, она ни с кем больше не встречалась, они были помолвлены несколько месяцев, к тому же все видели, как я люблю Дэна. Даже бабушка, вечно обеспокоенная склонностью своей взбалмошной дочери попадать в какие-нибудь истории, потеряла всякое терпение оттого, что мама так тянула с назначением дня свадьбы. Дэн своим обаянием, которое мгновенно превратило его в любимца всей Академии, сумел очень быстро завоевать и мою бабушку.
Быстро завоевать мою бабушку не удавалось почти никому. И тем не менее она настолько поддалась тому волшебству, которым Дэн завораживал актеров-любителей «Грейвсендских подмостков», что согласилась сыграть в «Верной жене» Моэма. Бабушка получила роль аристократки – матери обманутой жены, и оказалось, что она в совершенстве владеет той легкой манерой игры, что так необходима для салонной комедии, – особой светской утонченностью, без которой мы все прекрасно обходились. У нее даже обнаружился британский выговор, причем безо всякой подсказки со стороны Дэна, которому хватило ума догадаться, что британский выговор никак не мог полностью исчезнуть из глубин подсознания Харриет Уилрайт – просто требовался весомый повод, чтобы он всплыл наружу.
«Терпеть не могу отвечать прямо на прямые вопросы», – высокомерно заявляла бабушка словами миссис Калвер[7], идеально попадая в роль. А в другой запоминающейся сцене, высказываясь по поводу любовной связи зятя с «лучшей подругой» ее дочери, она заключала: «Если Джону так уж необходимо обманывать Констанс, пусть уж лучше делает это с кем-нибудь, кого мы все хорошо знаем». В общем, бабушка выглядела до того великолепно, что весь зал замирал от восторга; получился грандиозный спектакль, хотя большая часть сценического времени, на мой взгляд, совершенно зря ушла на жалких Джона и Констанс, которых невыразительно играли глуповатый мистер Фиш, наш сосед-собаколюб (Дэн неизменно давал ему первые роли), и мегера миссис Ходдл, чьи ноги – самое сексуальное, что в ней было, – почти полностью скрывались длинными платьями, подобающими салонной комедии. Бабушка объясняла свое перевоплощение в спектакле в эдакую жеманную скромницу тем, что просто всегда по-особому ощущала атмосферу 1927 года, – и я не сомневаюсь в этом: она, разумеется, была в то время красивой молодой женщиной, «и твоей маме, – говорила мне бабушка, – пожалуй, было тогда еще меньше лет, чем тебе сейчас».