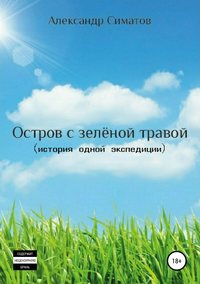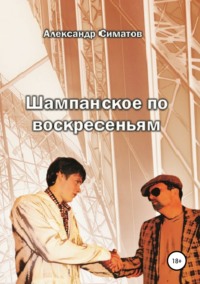полная версия
полная версияПо Верхней Масловке без спешки
Начнем с уже привычных авторских крайностей. Здесь их в одном предложении целых две. Во-первых, пальто не просто модное, а «очень» модное. Во-вторых, это самое очень модное пальто сидит на девушке не просто плохо, а никак не сидит, то есть «как тулуп на ямщике».
Итак, констатируем, что городская девушка очевидно не бедна, раз позволила себе купить такое пальто. Далее, девушке хватило вкуса не ошибиться и из большого количества пальто (а в столичных городах выбор одежды действительно велик) выбрать «очень» модное. Это говорит о том, что она, вероятно, следила за модой и даже заглядывала в модные журналы. И все-то у нее, у голубушки, шло как надо до тех пор, пока не оказалась она в примерочной кабине салона одежды. И вот тут, по разумению автора, чувство меры и вкус разом покинули ее. Как ни вертелась она затем перед зеркалом, как ни меняла фасон за фасоном и размер за размером, как ни старались продавщицы угодить ей, все выходил на нашей девушке «тулуп на ямщике». Так продавщицы и отправили ее из салона в тулупе и с богом, вздохнув с облегчением после трудов немалых и перекрестив клиентку на дорожку.
Поверить в это никак невозможно, если не знать, например, что девушка мерила пальто в кромешной тьме и без зеркала. Хотя и на ощупь трудно так ошибиться, чтобы прям как тулуп! да на ком? – на ямщике! Кстати, тулуп на ямщике может сидеть по-разному.
Заключение: вот такие обидные казусы могут случиться в совершенно безобидном тексте, если в одном коротком предложении без удержу броситься сразу в две «женские» крайности.
Не спеша мы добрались до второй главы романа. Наш герой Петя вернулся в мастерскую старухи-художницы, у которой проживал.
«Не заглядывая к старухе, он поднялся в свою каморку, снял, бросил на кресло плащ, что случалось с ним очень редко даже в последние проклятые месяцы…» (12-я стр.)
Читатель, так что же «случалось с ним очень редко?» – вы поняли? И как все происходило раньше – до «проклятых месяцев»: не снимал плаща? Или не бросал? Может быть, аккуратно клал? А может быть бросал, но не на кресло? Или сначала заглядывал к старухе не раздеваясь? Прямо в верхней одежде?
Чтобы читателю был понятен случайный характер поведения героя, ему надо дать знать, как все происходило у Пети в обычные, так сказать типичные для него дни.
«Снизу, из мастерской, доносились голоса… Несколько раз взрывался молодой и сильный смех женщины. Красивый, низкий и свободный смех. Кокетки и глупенькие так не смеются. Нужно быть достаточно привлекательной, чтобы позволить себе подобную роскошь». (12-я стр.)
Поговорим о смехе женщины, более ни о чем, поскольку ее смех настолько уникален, что стоит обратить на него особое внимание. Это будет тем более увлекательно, что мы пока ничего не знаем о женщине, которая смеется.
«…молодой и сильный смех женщины…»
Когда говорят о «сильном» голосе, то имеют в виду мощь, диапазон звучания. «У певца сильный голос», – говорят вам, и у вас не возникает вопросов; во всяком случае, вы предполагаете, о чем идет речь. «У юмориста N сильный смех», – говорят вам, и вы не понимаете, что это за смех такой. Что подразумевается под «сильным» смехом? Если воспринимать смех в категориях «тише – громче» (а как иначе, тем более что читателю сообщили, что смех «взрывался»), то героиня «из мастерской» просто-напросто громко смеялась.
Теперь зададимся вопросом: может ли смех быть «молодым»? Если ответить утвердительно, то тогда придется признать, что смех может быть и старым, и тогда в литературе допустима фраза «за стенкой раздавался старый смех» – а это, согласитесь, настолько режет слух, что вряд ли кто-нибудь из писателей рискнет воспользоваться подобным определением.
Решение проблемы несложное: надо молодость приписать не смеху, а тому, кто смеется: «громкий смех молодой женщины». Вы возразите, сказав, что старая женщина вполне может смеяться как молодая. Возможно. Но в данном случае мы не видим эту женщину и не знаем ее возраста. Смеется же она как молодая, поэтому мы предварительно и говорим: «громкий смех молодой женщины».
Громкий смех молодой женщины можно себе легко вообразить. Этого представления вполне достаточно для первоначального формирования образа героини – до знакомства с ее внешностью. Достаточно, но, как выясняется, не для автора. Автор в который уже раз попадает в ловушку избыточного описания, и в итоге его настигает проклятье бесконечных уточнений, сравнений и деталей.
Смех у женщины, сообщает читателю автор, не только «молодой и сильный», но еще и «красивый, низкий и свободный».
Прежде чем попытаться представить этот смех с учетом пяти определений, ему данных, остановимся ненадолго на эпитете «свободный». Тут такая же проблема, как и с «молодым» смехом: если у человека может быть «свободный» смех, то с таким же успехом у него может быть и «несвободный» смех. Вообще говоря, смех, как и речь, – это совокупность звуков разной частоты и амплитуды, передаваемых посредством колебаний воздуха. Поэтому желательно не приписывать смеху определения в отрыве от его обладателя, тогда не будет огорчительных недоразумений. Вот пример: «Старик вдруг засмеялся совершенно свободно, с каким-то молодым задором, не стесняясь и не сдерживая себя…» Мы не ответили на вопрос «какой смех?», но мы ответили на вопрос «как смеялся старик?», и нам все понятно «про его смех».
Наконец о смехе женщины из мастерской «в целом». Попробуйте проделать следующее. Закройте глаза и мысленно начинайте прибавлять к неизвестному вам смеху неизвестной вам женщины по одному определению, только не спешите: «молодой», «сильный» и так далее. После каждого определения делайте паузу и пытайтесь представить себе смех с учетом тех эпитетов, которые вы уже добавили. Что у вас получилось? Когда начались трудности? На третьем определении? Вы не знаете, что такое «красивый» и «свободный» смех? А в конце, в итоге-то что? Ничего? Каша? Трудности с воображением? Странно. Может, автору не стоило останавливаться и надо было уточнить характер смеха дополнительной парочкой эпитетов и довести их общее число до семи?
Заметим, что автор, кажется, сам плохо разбирается в смехе, который сконструировал. Иначе он не утверждал бы, что «кокетки и глупенькие так не смеются». Позвольте, разве кокетки и глупенькие не могут быть молодыми и не могут громко смеяться? А почему автор отказал им в обладании низким тембром голоса и, соответственно, смеха? А уж как свободно могут смеяться глупенькие, знают, кажется, все. А как завораживающе красиво могут смеяться кокетки, строя вам глазки…
Но и приведенного утверждения автору мало. Еще он настаивает на том, что смех, отвечающий пяти авторским критериям, – это роскошь и только «достаточно привлекательные» особы могут такой смех себе позволить. А что же остается прочим, недостаточно привлекательным особам? Прочие особы пусть довольствуются «не молодым, не сильным, не красивым, не низким и не свободным» смехом. Хотите для полной ясности заменить прилагательные антонимами? Пожалуйста: прочие особы пусть довольствуются старым, слабым, уродливым, высоким и скованным смехом.
…Смех женщины из мастерской выбил из колеи. Расхотелось читать роман подряд, страницу за страницей. Появилось желание перелистывать книгу быстрее, случайным образом, подолгу не задерживаясь и особенно не рассуждая, – чаще отдаваясь на волю читателей этой статьи.
«…Нужно было пятнадцать лет потереться об этот характер, чтобы, став неврастеником, понять наконец, откуда что взялось…» (13-я стр.)
Вы не пробовали «тереться» о чей-нибудь характер? Да чтобы еще и не один год? Не пробовали? Жаль. Если выпадет оказия, потритесь, пожалуйста, расскажете потом об ощущениях.
Да, чуть не забыл: в процессе трения не забывайте следить за нервишками.
«Когда к старухе являлось много народу, на Нору вешали шарфы и шляпы. Тогда она переставала быть пышущей здоровьем колхозницей и становилась похожей на девку из непристойного варьете». (17-я стр.)
Сначала поясним: Нора – это «обнаженная гипсовая» статуя.
Теперь просьба к читателям: будете в музее изобразительных искусств – не поленитесь, накиньте на какую-нибудь статую обнаженной женщины с пышными формами пару-тройку шарфов и нацепите на нее пару-тройку (разумеется можно больше) шляп. Затем окиньте ее (статую) внимательным взглядом и решите для себя: стала ли она похожа хоть на какую-нибудь девку хоть из какого-нибудь варьете – пристойного или непристойного.
«Нина остановилась за его спиной и долго глядела в холст». (22-я стр.)
В этом предложении интересен лишь предлог «в». Как вы знаете, глядеть можно в окно, в дверной проем, в микроскоп, в дырку от бублика. Но вот в холст глядеть нельзя, равно как и в картину, в полотно, в фотографию, просто потому, что это не по-русски. Здесь следует использовать предлог «на».
«Быстро набрала в… тускло-жестяной чайник воды…» (24-я стр.)
В русском языке сложные прилагательные, обозначающие качество с дополнительным уточняющим оттенком, пишутся через дефис. Например: кисло-сладкое яблоко. Качество яблока – сладкое, но с кислинкой – это и есть оттенок. Основанием для подобного дефисного написания считается понятийная близость сочетаемых слов сложного прилагательного. То есть эти слова должны быть из одного ряда понятий, тогда дополнительный оттенок будет действительно уточнять основное прилагательное.
В авторском тексте использовано сложное прилагательное «тускло-жестяной». Вот только сочетаемые слова прилагательного не близки: определение «тусклый» – это характеристика цвета, а определение «жестяной» указывает на материал, из которого изготовлен предмет. Согласитесь, невозможно уточнить цвет предмета материалом, из которого этот предмет изготовлен, или наоборот. Если предмет деревянный, например, то, что бы вы ни говорили о цвете, в который он выкрашен, вы не сможете уточнить материал, из которого он изготовлен: зелено-деревянный стул так и останется сделанным из дерева, а не из зеленого дерева.
У прилагательных с дополнительным оттенком есть интересная особенность, которую стоит отметить: слово-оттенок на слух – невольно – воспринимается как наречие, отвечающее на вопрос «как?», и чем меньше между словами прилагательного понятийной близости, тем явственнее звучит этот вопрос. Так и кажется, например, что «тускло-жестяной» чайник вроде бы жестяной, но как-то тускло, то есть как бы и не совсем жестяной. Удивительно, но первое слово прилагательных, образованных из слов, обозначающих равноправные понятия («бананово-лимонный Сингапур», яблочно-апельсиновый сок), и прилагательных, части которых указывают на неоднородные признаки (военно-медицинская академия), не воспринимается как наречие.
Русский язык не ставит формальных преград на пути сочинения сложных прилагательных с дополнительным оттенком, но нельзя же злоупотреблять его безграничной податливостью. В противном случае в текстах авторов начнут появляться несуразности типа розово-резиновых шариков, коричнево-кожаных портфелей, весенне-сосновых веток и сладковато-десертных вин.
Забегая вперед, скажем, что весь роман пестрит сложными прилагательными, часто вызывающими недоумение и режущими слух. На некоторые из них мы обратим с вами внимание.
«…Матвей, меланхолично спокойный, развернул конфету…» (29-стр.)
Наше первое знакомство с Матвеем произошло на 20-й странице романа. С тех пор автор кое-что нам о нем рассказал. И вот на 29-й странице он решил добавить к характеру героя еще одно определение: «меланхолично спокойный». Все бы ничего, но автор сделал это мимоходом в момент разворачивания Матвеем конфеты, что, согласитесь, странно. Может быть, автор хотел поведать нам вовсе не о новой грани характера Матвея, а о том, как именно Матвей разворачивал конфету? Если так, то надо сказать, что автор сделал это на удивление своеобразно.
Кстати, а почему «меланхолично спокойный», а не флегматично спокойный? Читатель, вы в состоянии определить, какое в данный момент у человека спокойствие: флегматичное или меланхоличное? Нет? Вот и выходит, что к определению «спокойный» автору просто захотелось чего-нибудь добавить для утяжеления фразы.
«…Мне есть куда ходить! Есть чьи пороги коленями отирать! Есть лестницы кроме музейных, с которых меня спускают!!» (31-я стр.)
Это криком кричит наш герой Петя.
Достопочтенный читатель! Возможно ли пороги «отирать коленями»? Попробуйте себе это представить. Можно предположить лишь, что если «коленями» и «отирают пороги», то не в русском языке, потому что в русском языке есть замечательный фразеологизм «обивать пороги».
Странно, что наш образованный герой, мечтающий стать завлитом, не знаком с этим устойчивым выражением. Хотя чему удивляться: вспомним, что не так давно на 7-й странице романа он сомневался, по плечу ли ему работа мозга.
«А ты стой… и воровато подглядывай, как ходит незнакомая непринужденная женщина…» (33-я стр.)
Не поленитесь, читатель, выгляните, пожалуйста, в окно. Дождитесь, когда на улице покажется какая-нибудь женщина, и попытайтесь определить: она – эта идущая мимо вас незнакомка – принужденная или «непринужденная». Если вы решите, что незнакомка принужденная, – попробуйте угадать, кем она принуждена и к чему.
«Не разнимая век, повернулся на спину, и боль ядовитыми ручейками перелилась в виски. Он тихо замычал и открыл глаза». (34-я стр.)
«Он» – это главный герой романа, человек, и зовут его Петя. Непонятно, почему он «замычал», а не застонал, как обычно делают все люди. Разумеется, человек может наедине с собой, уподобившись корове, вдруг замычать. Но для этого он должен предварительно слегка тронуться умом или находиться в состоянии жуткого похмелья. Но Петя до этой страницы был трезв и более-менее нормален, разве что однажды засомневался, по плечу ли ему работа мозга.
Теперь о веках. Петя не смог бы «разнять» веки, даже если бы захотел. Дело в том, что «не разнимать» можно только руки и пальцы. Веки можно только разомкнуть.
«Не шевелясь, он повел взглядом по стенам. Темнота скрадывала убогую колченогость набранных по знакомым или подобранных где-то вещей». (35-я стр.)
Разберемся с вещами нашего героя. Итак – «колченогость». «Колченогость» – то же самое, что и хромоногость, означает физический дефект, заключающийся в разной длине ног. Заметим, что «ноги» могут принадлежать не только человеку или животному, но и стулу, например (ножки стула). Далее – определение «убогий». «Убогий» – значит нищий, бедный, неимущий, скудный. Соединим определения вместе: «убогая колченогость». Теперь представьте себе, что человека в темноте (слава богу, что в темноте!) окружают вещи (с ногами и без ног), которые объединяет одно общее отличительное свойство: «убогая колченогость». В такой обстановке действительно впору не застонать, а «замычать» от безнадежности и страха.
«Он был готов к драке, совершенно готов. Как обычно, старуха добилась своего несколькими словами – она любила жрать человечину». (44-я стр.)
«Жрать человечину» – надо же!
Автор, по-видимому, хотел высказаться предельно экспрессивно, но не знал, как. В итоге сделал из старухи людоеда. А может быть, всего лишь потому, что ничего не слышал о чудесном фразеологизме «есть поедом»?
«Он молча сцеплял и расцеплял кисти рук. Хотелось истошно мычать». (45-я, 46-я стр.)
О русском языке: «истошно» кричат, а не «мычат». Хотя начинаешь уже сомневаться: на 34-й странице Петя, если вы помните, именно «мычал».
«Да, я ему позвонила, – продолжала она, разглаживая блестящую обертку ногтем большого пальца и машинально мастеря из нее фантик». (46-я стр.)
Хорошо, что автор в своем стремлении к определенности не дошел до абсурда, ограничился лишь уточнением, что «разглаживание» выполнялось «ногтем» и что ноготь принадлежал «большому пальцу». А мог ведь разгладить обертку ногтем большого пальца левой руки, например.
Без этих совершенно ненужных деталей из-под пера автора могла бы выйти замечательная неопределенность: «…разглаживая блестящую обертку и машинально мастеря из нее фантик». Уверяю вас, читатель сам бы как-нибудь догадался, что разглаживание выполнялось не носом, не локтем и не коленом.
«Мадам Веретенко, приподняв пудовую левую грудь и почесав под нею, сурово спрашивает у желтой и голенастой, как высушенный кузнечик, Марии Семеновны…» (55-я стр.)
Помните, как на 7-й странице автор просил дать герою возможность «хоть левой ногою нащупать твердь»? Теперь он непонятно с какой целью акцентирует наше внимание на «левой» груди мадам Веретенко, вместо того чтобы без ненужных уточнений сообщить нам, что мадам почесала под «пудовой грудью».
На первый взгляд может показаться, что сделанный на левой груди акцент безобиден. Но, как и в случае с ногами на 7-й странице, это не так. Автор указывает нам именно на левую грудь, тем самым намекая, что правая грудь чем-то от нее отличается. Например весом, то есть она, возможно, не пудовая.
(Читатель, вы напрасно смеетесь, парные внешние органы человека на самом деле не являются зеркальным отражением друг друга.)
Пару слов о «голенастости» Марии Семеновны. Имея в виду эту самую «голенастость», автор совершенно к месту вспомнил о кузнечике. (Сами посудите: ну кто может быть голенастее кузнечика?) Но почему автору приглянулся именно «высушенный кузнечик»? Почему ему не сгодился живой – голенастый от рождения – кузнечик? Потому что автор считает, что «высушенный кузнечик» голенастее живого?
Вы можете мне возразить, обратив внимание, что Мария Семеновна желтая (смотрите текст; всякое в жизни бывает, последствия желтухи там и прочее), и поэтому понадобился высушенный кузнечик, ведь живой кузнечик – он зеленый. Пусть так, читатель, но высушенные кузнечики не бывают желтыми, они бледно-песочного цвета и никак не ярче!
(Признаюсь: совершенно утомили эти две моющиеся в бане бабы из воспоминаний главной героини романа.)
«Вы же собираетесь одолжить у него денег. А он, похоже, теперь при кошельке». (65-я стр.)
Странный какой-то у автора главный герой, странно ведет себя, мычит. И говорит странно. В общем, герой-Петя, будущий заведующий по литературной части, имеющий красный диплом и ставящий спектакли в драмкружке (а по молодости писавший статьи в журналы), у автора романа какой-то безграмотный.
Судите сами: старуха собирается взять взаймы денег на ортопедические ботинки, а Петя говорит – «одолжить» и при этом – «у него». Но «одолжить» – значит дать взаймы ему, а не наоборот. Петя не знает значение этого глагола?
И изъясняется Петя как-то не по-русски. По-русски говорят, что человек при деньгах, а у Пети человек «при кошельке». Откуда образованный человек набрался этой тарабарщины?
«Забавно, что… старуха… живет в ком-то под уютным, детски-домашним именем Саша…» (69-я стр.)
Помните, на седьмой странице Петя боролся с искушением «уютно посидеть с тем и этим инструктором» и я предупреждал вас, что с «уютом» нам еще предстоит не раз столкнуться?
Мы с вами уже обратили внимание на неистребимую любовь автора к сложным прилагательным (вспомним «тускло-жестяной» чайник). Тут та же история: «детски-домашнее имя». Может быть, автор всерьез полагает, что имя «Коля», например, «взросло-домашнее»? Или «взросло-недомашнее»? А какое из имен «уютнее»: «Саша» или «Маша»? В каком из них больше уюта?
«Дочь во всем получилась другой: комфорт, уютная благопристойность, отреставрированные комоды и буфеты, неизменная процедура обеда». (69-я стр.)
Вновь «женская» крайность в определениях: «во всем»! Ну и уют тут как тут, куда же без него.
В чем во всем? В комфорте, благопристойности, комодах и процедуре обеда? Нет? Тогда какой же другой – во всем! - получилась дочь, как вы думаете, читатель? Добрее? Злее? Веселее? Счастливее? Умнее? Коварнее? Удачливее? Смелее?
Может быть, автор имел в виду всего лишь заведенный порядок в доме дочери? Похоже, что это так, но тогда напрашивается вопрос: какой же это должен быть заведенный в доме порядок, чтобы на основании этого можно было сказать, что дочь «во всем получилась другой»?
«Саша замуж вышла рано,… брак получился… уютным, благопристойным…» (69-я стр.)
А не кажется ли вам, что вся 69-страница получилась какой-то, говоря в любимом авторском стиле, «уютно-благопристойной»? Сначала мы познакомились с «уютным именем», затем с «уютной благопристойностью», теперь вот с «уютным, благопристойным браком». Явно не хватает уютной старости и уютных похорон, господи прости.
«…мой ребенок, мое милое дитя – о, как рвалось, как надрывалось сердце!» (70-я стр.)
Так «рвалось» или «надрывалось»? Надо же с этим определиться, это не шутки. Обычно ведь происходит надрыв, а затем разрыв, а здесь все вместе – просто жуть! Наверное, в каких-то областях сердце сразу «рвалось», а в каких-то – сначала «надрывалось». Правое предсердие, например, разрывалось, а левый желудочек – надрывался.
«Приходили люди: …студент Саша, от которого на версту разит здоровьем и силой». (70-я стр.)
Во-первых, устойчивым выражением в русском языке считается «разит за версту», а не «на версту». Во-вторых, разить может перегаром, лицемерием, фальшью, дрянным одеколоном, наконец. Подобные фразы всегда имеют негативный оттенок благодаря несимпатичному глаголу «разить» (несимпатичному в данном контексте, потому что можно, например, разить врага оружием). Может ли за версту «разить здоровьем и силой» – судить читателю. Если может, тогда с таким же успехом «за версту» может разить добром, справедливостью, красотой, молодостью, умом, порядочностью.
«В тот раз к Саше ее отвозил биолог Сева, забавный субъект… вислоухая борзая по музеям и премьерам». (71-я стр.)
Что «вислоухая борзая по музеям и премьерам»? Носилась по музеям и партерам? Может, этот субъект Сева и есть борзая? А что он делал с музеями и премьерами, будучи борзой? Нет, увольте, читатель, разбирайтесь сами.
«…Тетрадка затерялась, как множество живых человеческих судеб …» (74-я стр.)
Судьба человека не может быть ни живой, ни мертвой, это очередная «находка» автора. Судьба просто есть или была (если уже завершила свое существование вместе с хозяином) и «затеряться» нигде не может. Человек может затеряться в джунглях Амазонки или в толпе, а судьба лишь может его в эти джунгли или в эту толпу привести.
«Как странно вспоминать – все ускользает, и прошлые лица, слова и жесты всплывают порознь и вдруг, как обломки кораблекрушения, не сразу и сообразишь – когда что было, чьи это слова пришли в ум…» (74-я стр.)
Здесь стоит заметить, что у «кораблекрушения» не может быть «обломков», обломки корабля могут появиться в результате кораблекрушения. И еще: обломки корабля не могут всплывать «порознь и вдруг», как это может происходить с воспоминаниями человека. Те из обломков, плотность которых выше плотности воды, навсегда уходят под воду, остальные плавают на поверхности. (Простите за ученое занудство, без него никак не обойтись.) Автору в очередной раз захотелось красивого сравнения, но получилось как с эскалатором в качестве карьерной лестницы.